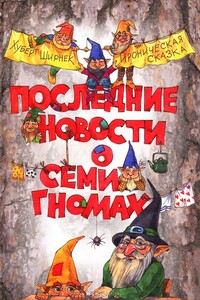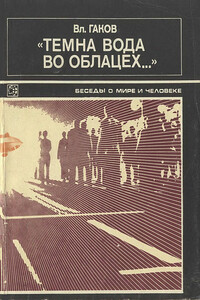Звери = боги = люди | страница 17
Может быть поэтому нередко наблюдавшиеся мной «сбои» в правдоподобности, «естественности» повествований моих собеседников, что могло бы быть названо «нарушением логики» их рассказов, переходом из плана реального в план фантастического, привели к осмыслению тех же проблем, что стоят перед исследователями «первобытного» мышления и магии.
Начну с примера. В 1980 году во время пребывания в Республике Мали я услышал от своего собеседника бамбара рассказ о судьбе его брата[20]. В нем, в частности, содержалось упоминание о превращении брата в обезьяну и о смерти его в таком обличье от рук охотников. Возможность мистификации исключается.
Собственно, ничего необычного в этом рассказе не содержалось, ибо основная канва его — типичная иллюстрация того, что наблюдается этнографами и что рассматривается в религиоведении как одно из проявлений ранних форм религии, а в культурологии — как ранние формы мышления. Но когда сталкиваешься с подобным сюжетом в ходе обычной, бытовой беседы, то он, несомненно, особенно трогает на первый взгляд экзотичностью, а если глубже, то мерой несоответствия собственных культурных стереотипов образцам мировосприятия в культуре, к которой принадлежит собеседник.
Здесь, как и в упомянутой ситуации с Беди Кейта, имеется повод для поисков соприкосновения способов мышления представителей «развитых» и «отсталых» обществ — поисков, которые в науке долго шли под углом зрения, противопоставлявшим «рациональное» и «иррациональное».
В приведенном рассказе «иррациональное», видимо, проявляется опосредованно в факте превращения человека в обезьяну, а непосредственно — в вере информанта в истинность этого факта. Мы же, зная из нашего опыта нереальность подобного превращения на практике, квалифицируем его как все то же проявление веры в «сверхъестественное» — необходимую, как уже говорилось, предпосылку религии. Высказывание, в котором подобный факт упомянут, мы расцениваем как содержащее «логический сбой». Впрочем, если учесть стереотип мышления моего собеседника, рассказ его строго логичен.
Следует, видимо, признать, что в обширном этнографическом материале, служащем иллюстрацией и базой для исследования проблемы, сами технические приемы, формы умозаключений не противоречат законам логических построений. Речь идет не о способе соединения блоков информации, а о содержании самих блоков, о способе их построения. Так, в упомянутом рассказе «охотники превратили брата в обезьяну», а затем «убили его в обличье обезьяны» — это, как минимум, два разных блока информации, формальная логическая связь между которыми соблюдена, да и формальная логика построения каждого блока — тоже. Проблема здесь заключена именно в содержательном моменте, понимание которого в собственно гуманитарных науках в какой-то мере зашло в своеобразный тупик, каковым, на мой взгляд, выступает характеристика проявлений архаического сознания как мистического, по Л. Леви-Брюлю, магического, по Дж. Фрэзеру, или мифологического, по К. Леви-Строссу.