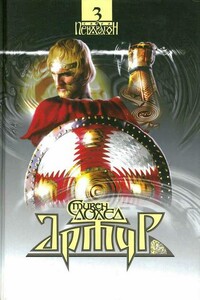Поля Елисейские. Книга памяти | страница 56
Приближалась страшная осень 1939 года. Еще в августе лучшие экспонаты скандинавских блондинок наводняли Париж: такой жажды греха и продолжения жизни Монпарнас, по утверждению старожилов, давно не испытывал. Люксембургский сад изнемогал под тяжестью цветов и похоти.
Наконец радио передало о дружеской встрече Сталина с Риббентропом в Москве. И вскоре в актюалитэ мы увидели, как поляки пускали свою конницу против тяжелых танков Круппа. Всадники, по экипировке похожие на ахтырских гусар, бросались на стальные башни, извергавшие огонь, и тут же превращались в дымящееся мясо. И только глупцы типа Сталина и Гитлера могли думать, что им удалось покончить с рыцарской Польшей.
А 1 сентября, кажется, в газетах мелькнула наконец энигматическая фраза: «Англия и Франция находятся в состоянии войны с Германией» – dans un etat de guerre. Mobilisation générale [52] .
Скрещенные силуэты двух трехцветных флажков на афишах: в который раз! Все двинулось и поплыло с ружьями на тесемках и без обойм, в голубых бумажных мундирах 1918 года. На забранном досками окне соседнего бистро надпись мелом: закрыто pour la durée [53] .
В Люксембургском саду бассейн, где плавали осенью жирные карпы. Эта игрушечная водная гладь, оказывается, может служить ориентиром в лунные ночи для вражеской авиации. (Правительство все предвидит!) Бассейн распорядились немедленно осушить: первая всенародная казнь рыб!
В кустах против Сената расположилась противовоздушная батарея. И солдатики в обмотках и тяжелых башмаках, вооружившись сетками, зашагали по колено в воде, вдохновенно выуживая отупевшую рыбу. От зноя спины взопрели, тонкие юношеские шеи под расстегнутым воротом гимнастерок темнеют крестьянским загаром. И только чуть-чуть крупные, тяжелые, но приплюснутые носы галльских, франкских и южных хлеборобов свидетельствуют о том, что это Европа, Запад, Франция, первая дочь католической церкви, а не православная, хозяйственная, кондовая Русь, согнанная из деревень мудрым начальством для борьбы с исконным врагом.
А рыба, между тем поднятая из воды, страдала, с упреком разевала рот и грозно-жалостливо обозревала безоблачное небо: неизгладимое, романское, благоухающее небо Парижа.
Я спешил на собрание правления «Круга» и явно опаздывал: никак не мог оторваться от мудрой толпы, от этого исторического детского сада, от волшебного сияния чужой и благодатной стихии. (Впрочем, потом, когда бедствия захватили народ всерьез, толпа начала разыгрывать свою роль по классическим образцам: за день до прихода немцев я у метро «Конвансион» пережил нечто напоминающее казнь Верещагина.)