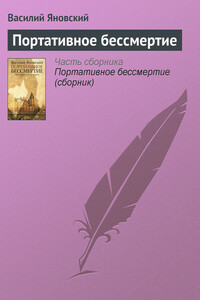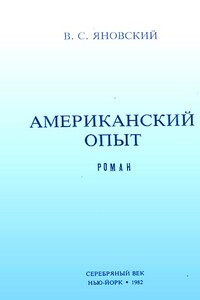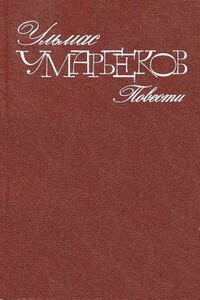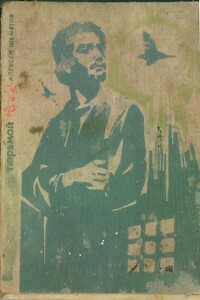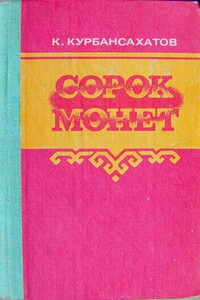Поля Елисейские. Книга памяти | страница 153
– И что осталось от всего этого вдохновения и подвига? – спрашивала мать Мария. От горячего чая ее очки в железной оправе покрывались паром; она их поминутно снимала и вытирала, оглядывая нас выпуклыми, темными, большими, близорукими глазами. – Что осталось от всего этого горения и жертвенного подъема? Ровным счетом ничего не осталось, – продолжала она не спеша, убежденно. – Разве только еще одна могилка у Перекопа. Его гибель была совершенно не нужна и ничего не изменила. А ведь он мог еще жить здесь и с нами работать…
Эти слова «еще одна могилка» и «ровным счетом ничего» были сказаны сестрою с таким чувством, что я считаю долгом их запечатлеть.
Затем мы вместе встречали Новый, 1940 год у Федотовых – в последний раз в свободном Париже. Старались даже шуметь, веселиться, но тени близкой европейской ночи уже покрывали наш старый эмигрантский мир.
Мы никогда не узнаем доподлинно, как они умерли: мать Мария, Фондаминский, Вильде, другие… И это совсем не нужно. Есть нечто греховное, суетное в такой жажде реальных подробностей. Несомненно, что все они давно уже шли навстречу своему мученическому концу, не уклоняясь, не отступаясь. И умерли они активной, творческой смертью.Совершенно равнодушно прошел я мимо некоторых признанных писателей земли эмигрантской (а теперь, пожалуй, советской).
Куприн, Шмелев, Зайцев. Они мне ничего не дали, и я им ничем не обязан.
Бориса Зайцева я все же изредка встречал. Отталкивало меня его равнодушие – хотя и писал он как будто на христианские темы. Стиль его «прозрачный» поражал своей тепловатой стерильностью. Зная немного его семейную жизнь и энергичную жену, думаю, что Борис Константинович в чем-то основном жил за чужой, Веры Александровны, счет.
В 1929 году мне было двадцать три года; в моем портфеле уже несколько лет лежала рукопись законченной повести – негде печатать!.. Вдруг в «Последних новостях» появилась заметка о новом издательстве – для поощрения молодых талантов: рукописи посылать М.А. Осоргину, на 11-бис, Сквэр Порт-Руаяль.
А через несколько дней я уже сидел в кабинете Осоргина (против тюрьмы Сантэ) и обсуждал судьбу своей книги: «Колесо» ему понравилось, он только просил его «почистить». (Подразумевалось – «колесо революции».)
Михаил Андреевич тогда выглядел совсем молодым, а было ему, вероятно, уже за пятьдесят. Светлый, с русыми, гладкими волосами шведа или помора, это был один из немногих русских джентльменов в Париже… Как это объяснить, что среди нас было так мало порядочных людей? Умных и талантливых – хоть отбавляй! Старая Русь, новый Союз, эмиграция переполнены выдающимися личностями. А вот приличных, воспитанных душ мало.