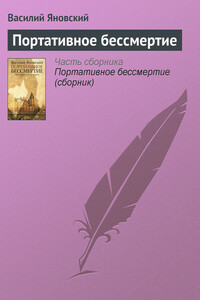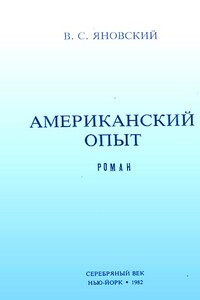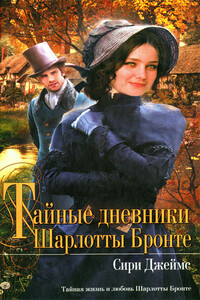Поля Елисейские. Книга памяти | страница 141
Конечно, стихи портативны, отнимают мало места, их можно вставлять между очередным обзором неудачной пятилетки и разгоном легендарного Учредительного собрания вроде виньетки. К тому же ничего постыдного нет для старого либерала в признании, что он нынешних стихов не понимает: «Раз Адамович одобряет, мы печатаем!»
В прозе же, извините, Руднев и Слоним все постигли, их на мякине не проведешь. Вследствие этих особенностей, психологических главным образом, зарубежная проза несла и несет двойную нагрузку.
Фондаминский и все его близкие друзья помогали нам в меру сил и действительно постепенно к концу тридцатых годов протащили в «Современные записки» всю молодежь. В «Воле России» печатали тогда уже только переводы из Панаита Истрати.
Первую часть моего «Портативного бессмертия» я послал Фондаминскому для «Русских записок». Зензинов прочитал, но без определенного результата. К счастью, подвернулся Степун, которому Фондаминский передал рукопись… И вот мне вручили тысячу франков. Мой первый и, вероятно, последний «русский» аванс.
Вскоре Фондаминский ушел из «Русских записок», хозяином стал Милюков при секретаре М. Вишняке. Последний брезгливо жаловался: «Что за порядки? Как это можно раздавать такие авансы?..» Он критиковал Фондаминского и за «христианство», и за дружбу с «фашистами». О себе Вишняк мне с гордостью заявил, что каким он был в 1917 году, таким он останется навсегда, ни на йоту не меняясь. Мне это показалось чудовищной тратой жизни и времени.
Итак, благодаря вмешательству Степуна я получил тысячу франков, что позволило мне летом съездить в Эльзас. Вечером мы опять сидели за чайным столом Фондаминского. Зензинов сердито проходил из уборной в свою комнату; Степун, тяжело переступая узловатыми ногами, точно сдерживаемый коренник, стоял за своим стулом во главе стола и, размахивая то одной, то другой, казалось, тоже узловатою рукой, уже охрипшим голосом доказывал, что «недействие» в эмиграции тоже действие!
– Откройте скобки, поменяйте знаки на обратные, просверлите еще одну дырку в метафизической пустоте.
Моя тема «памяти» привлекла его внимание. И, должно быть, вспомнив эти наши ночные бдения, он двадцать лет спустя писал о повести «Челюсть эмигранта»:
«Одною из самых существенных, любимых мыслей Яновского представляется мне делаемое им различие между двумя образами памяти: линейной, которая сохраняет лишь то, что свершалось во внешнем мире, и вертикальной, которая как бы при вспышке молнии вспоминает очертания вырванных из второго мира предметов» (Новый журнал. 1958. № 54).