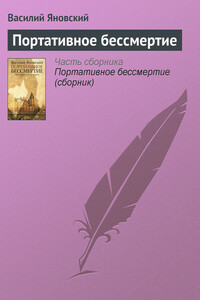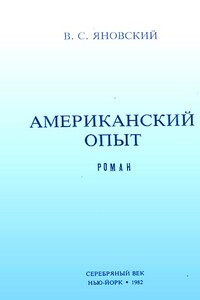Поля Елисейские. Книга памяти | страница 132
Наши читатели вымерли, увы, быстрее своих писателей; новые дипи не могли стать подлинными собеседниками. Они вернули эмиграцию к двадцатым годам, в провинцию, с ее обличительной литературой «наоборот»! Подавляющее большинство этих беглецов к религиозным вопросам равнодушно и лишено теологической интуиции. Недаром Белинский и Тургенев утверждали, что «русский мужик Бога слопает». А ведь как нам одно время внушали, что это народ-богоносец, православнейший христианин и бескорыстный подвижник… А в придачу еще великолепный бунтарь, взыскующий Правды или Истины (тут тонкое различие).
Оказалось, что русский мир – косная биологическая стихия, все принимающая в трезвом виде, мечтающая об индивидуальной телке и о полоске частного огорода. Если очень круто придется, то мы под пьяную руку разобьем чужую усадьбу, пианино загадим и заночуем в участке или в вытрезвителе.
А теологическая интуиция никому не нужна; народ, по-видимому, доволен своим социалистическим реализмом, и давно уже. Позволили бы ему только кормить поросенка под печью или в ящике письменного стола. Новый беженец, приезжая сюда, с радостью отправляется в церковь и разговляется поросенком с хреном. Но в старом русском и эмигрантском диалоге о Боге-Любви и Боге-Силе, о свободе и предопределении, о реальности очевидной или действительной, о несостоятельности энтропии и о воскресении во плоти… в этих несущественных спорах «ссыльнокаторжные» почти не участвуют.
Мистика враждебна, чужда не только комсомольцу, но и беспартийному. А понятия чести нет и не было! Тот гонор, над которым издевался Достоевский, описывая полячишек и французишек; да и Толстой не одобрял.
Без рыцарской чести и без теологической культуры обижаемый православный народ будто бы воспитал в себе чуткую «совесть», инстинктивно тяготея к справедливости и Правде… Но и это оказалось ложью в советской действительности.
В русской истории исключительную роль сыграла баба. Это она отгребалась от внутренних и внешних врагов, строила казармы и метро, кормила поросят в бане, копалась в огороде между двумя сверхурочными сменами, учила ребят мудрости Ленина и пытала «беляков» в пору гражданской войны. У бабы не бывает прогулов.
Вообще участие женщины в истории каждого народа – характерный признак. Удельный вес роли жены и мужа в разных культурах – иной! Здесь новое поле для исследователя.
Совершенно очевидно, что участие русской бабы в истории значительно превышает деятельность ее немецкой товарки. Ничего отдаленно похожего на Марфу Посадницу (и Зою Космодемьянскую) у фрицев нет. А Жанна д’Арк опять-таки стоит совершенно обособленно. За прусскую историю, какая бы она ни была, отвечает в первую очередь немецкий солдат. Баба ему помогала в том смысле, что, получив с Восточного фронта пеленки и сало, запачканные кровью, она с благодарностью пользовалась этим добром. Но, по-видимому, мечты Гретхен или Маргариты не исчерпывались этими приношениями, иначе они не сходились бы так охотно с унтерменшами.