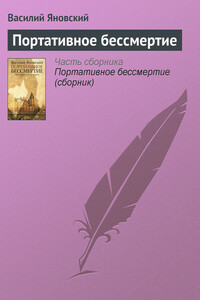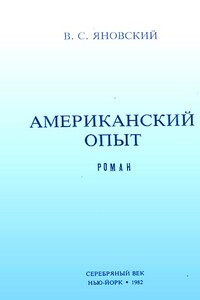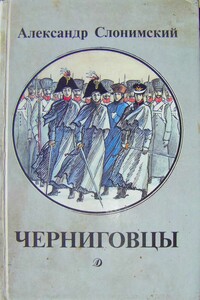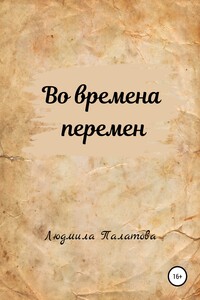Поля Елисейские. Книга памяти | страница 106
Люди спят; мой друг, пойдем в душистый сад.
Люди спят; одни лишь звезды к нам глядят.
Да и те не видят нас среди ветвей
И не слышат – слышит только соловей…
Да и тот не слышит: песнь его громка,
Разве слышат только сердце и рука…
Проза Иванова – трехмерная, на редкость безблагодатная («Петербургские зимы» в стороне, я разумею «романы» Иванова). «Распад атома» любопытен, пожалуй, с точки зрения автобиографической.
Тяготел он всегда скорее к «реакционному» сектору в своих взглядах, хотя убеждений, принципов у Иванова почти не было. Бессознательно любил и уважал только сильную власть и великую державу; требовал порядка и, главное, иерархии, при условии, что он, Иванов, будет причислен к элите.
После благополучного завершения войны я получил письмо от Иванова с юга Франции. Тогда печатался в «Новом журнале» «Американский опыт» и Г. Иванов похвалил его: «Вот такие именно писатели нам нужны…» Затем что-то намекал насчет возможного (при его связях) устройства французского перевода. И в заключение просил послать отрез серого сукна на костюм. Это все типичный Иванов; надо только помнить, что, если бы я ему отправил подарок, он бы мне обязательно, немедленно отплатил гадостью.
– О костюмчике не может быть и речи! – отвечал я ему.
Это был любимый анекдот одессита Ставрова… Гражданин высовывается из окна горящего здания и зовет на помощь. Ему кричат снизу: прыгай! Но он отвечает: «О том, чтобы прыгать, не может быть и речи». На Монпарнасе очень ценили эту шутку.
Вот я стараюсь, по-видимому, честно рассказать о человеке, которого знал, и чувствую, как сущность этой души, секрет ее ускользает. Неправда, что только Пушкин (Ленский) унес в могилу тайну своей личности. Мы все, и особенно такие искаженные образы, как Ивановы, храним и лелеем скрытую рану (язву), о которой можно догадаться только благодаря усердию, с которым мы толкаем посторонних, друзей и врагов на ложный след.
Я назвал Иванова совершенно аморальным; но это неверно по отношению к его труду. Для стихов своих он, вероятно, многим жертвовал и, пожалуй, признавал некоторые, хотя бы им самим установленные, правила и законы. Возможно, что всю остальную жизнь он почитал вздором, скрашиваемым только комфортом, и поэтому ничего не стоило врать, шантажировать, предавать. Единственно, стихи свои он воспринимал как настоящую реальность и тут не жалел себя.
К концу тридцатых годов, когда тень Гитлера падала уже за Рейн на французский пейзаж, наши нервы понемногу начали сдавать. В воздухе запахло кровью, быть может, кровью близких, и шуточки Иванова становились опасными; кроме того, полиция тоже вдруг, казалось, проснулась. Тогда он повел себя осторожнее; то ли дело во времена «Народного фронта» – сколько язвительных, пророческих анекдотов порождал Иванов.