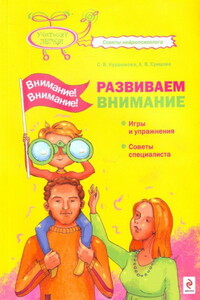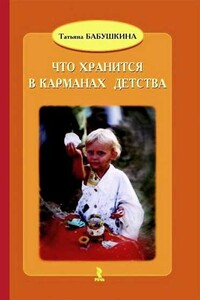Двадцать великих открытий в детской психологии | страница 6
Чтобы преподавание было эффективным, педагоги должны усердно работать над укреплением связей между непривычными, иногда весьма причудливыми теориями и фактами данной научной дисциплины, и детьми, являющимися объектом исследований. Мне кажется, что преподаватели использовали бы свое время намного разумнее, если бы попытались перекинуть мостик к студенческим умам, вместо того чтобы ждать, что студенты перекинут мостик к умам преподавателей. К сожалению, как мы только что видели, подобная задача чрезвычайно трудна. В детской психологии слишком много информации, чтобы можно было ею эффективно поделиться.
Теперь, после рассказа о «правофланговых» преподавателях Детской психологии, трудолюбивых авторах учебников и озадаченных студентах, настала очередь невоспетых героев детской психологии, источников всех этих лакомых кусочков и фактаческих материалов, которые заполняют страницы учебников детской психологии, — самих научных исследований. Перед вами некоторые из наиболее оригинальных и новаторских работ, когда-либо проводившихся во всей психологии, если не во всей науке. Благодаря им революционные шаги в понимании развития ребенка, которые сделаны за последние 50 лет, не имеют аналогов во всей истории человечества. Однако по каким-то причинам красота этих исследований, вместе с оригинальностью и побудительными мотивами исследователей, которые их провели, часто забывается, подобно бумажным обрезкам на полу редакторского кабинета. Вместо этого преподаватели иногда идут по проторенной дорожке, требуя от студентов запоминания фактов и выводов, стадий, дат и фаз научных изысканий. Могу признаться, что сам поступал так много раз. Но такой подход придает слишком большое значение результатам исследований в детской психологии, игнорируя при этом все то, что позволило эти исследования провести. Я полагаю, мы могли бы возбудить у студентов гораздо большее любопытство к нашей области, если бы вместо того чтобы обрушивать на них поток второстепенных подробностей, дали им возможность проникнуться оригинальностью наиболее значимых исследований. Мне кажется, что студенты, чей интерес разгорится благодаря этому методу, узнают подробности самостоятельно.
Разумеется, иногда индивидуальные исследования описываются в мельчайших деталях. Например, многие, изучающие детскую психологию помнят, что когда Пиаже исследовал когнитивное развитие, ему очень помогло внимательное наблюдение за тремя своими детьми. И нет сомнений, что сейчас где-то на планете студенты с сияющими глазами называют четыре основные стадии когнитивного развития по Пиаже. Но я задаюсь вопросом, не сочли бы студенты фигуру Пиаже более привлекательной, знай они, что он поначалу не проявлял никакого интереса к изучению детей. В сущности, его больше интересовали моллюски. И хотя, в конце концов, он остановился на профессии, связанной с наблюдениями за детьми, даже тогда он не находил свою работу слишком интересной, по крайней мере, на первых порах. Мне также любопытно, поразились ли бы студенты, узнав, что Пиаже написал в соавторстве свою первую научную статью в качестве не психолога, а биолога, причем еще не достигнув юношеского возраста. Более того, в результате известности, которую принесла ему эта статья, он даже получил предложение занять должность хранителя коллекции моллюсков в Музее естественной истории в Женеве (от чего, к своему великому сожалению, был вынужден отказаться, поскольку к тому моменту ему исполнилось всего 15 лет, и он должен был сначала окончить среднюю школу). Мне думается, что такого рода справочная информация выставляет достижения Пиаже в намного более привлекательном свете, и что сообщая изучающим детскую психологию подобные «сплетни», мы можем обнаружить, что все остальные идеи, высказанные Пиаже, начинают вызывать у них намного больший интерес. И если все пойдет как надо, возможно, они сумеют лучше припомнить и их.