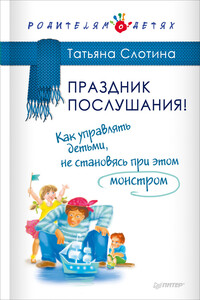Двадцать великих открытий в детской психологии | страница 37
Единственной целью Пиаже в Origins было приведение данных, чтобы показать, что имеет место интеллектуальная адаптация в результате опыта, и что она происходит в манере, согласующейся с базовыми положениями эволюционной теории. В стремлении к этой цели Пиаже разработал основу для описания того, как адаптируется интеллект малышей, и эта основа оказалась инаково хорошо приложимой ко всему периоду младенче-°гва — от самых ранних, наиболее примитивных, рефлекторных <мыслей» новорожденных к наиболее продвинутым ментальным комбинациям 2-летних. Ключами к его теории были «функционально инвариантные» роли, исполняемые адаптивными процессами ассимиляции и аккомодации. Под «функционально инвариантными» адаптивными процессами я понимаю то, что хотя специфические элементы, которые ассимилировались и произвели аккомодацию, могут меняться со временем, сами процессы работают одинаково, независимо от того, какими были элементы, или сколько лет ребенку. Неважно, ассимилируете ли вы автомобильный ключ в свою сосательную схему или открытие спичечного коробка в свою схему открывания рта, ассимиляция есть ассимиляция. Заключение
Как я упоминал раньше, идеям Пиаже отведено так много места в этой книге потому, что он занимал столь значимое место в области психологии. Пиаже раскрыл карты перед всеми и, сделав это, установил стандарт, в соответствии с которым пришлось жить каждому. И, в сущности, 1960-е и 1970-е годы стали золотым веком Пиаже. Все проверяли те или другие гипотезы, порожденные теорией Пиаже. И сам старый мастер был еще жив и здоров, делая все возможное для более глубокого понимания когнитивного развития детей.
Но, как вы можете представить себе, когда вы являетесь вождем великой революции в той или иной области, проходит немного времени, и другие люди начинают пересматривать свое отношение к вашему лидерству. Так появился и стал набирать силу ряд «антипиажетианских» движений. Бихевиористы, остававшиеся в 1950-х и 1960-х годах громогласными оппонентами идеи внутреннего ментального развития, которое Пиаже столь явно обозначил, делали выпады по любому поводу. А Ноам Хомский (см. главу 8), который был антибихевиористом, как и Пиаже, был также антипиажетианцем, подобно бихевиористам. Хомский (Chomsky) считал, что Пиаже придал слишком большое значение собственным усилиям детей в конструировании их ментального мира. Как мы увидим в главе 8, Хомский был твердым сторонником врожденности структуры для овладения языком; поэтому, с его точки зрения, просто не оставалось места для пи-^етианской идеи, согласно которой дети являются авторами собственного метального развития. Через два десятилетия после смерти Пиаже (в 1980 г.) его теория остается мишенью для многих психологов. Например, как мы увидим в главе 6, Рене Байержо (Renee Baillargeon) мало что оставила от гипотезы Пиаже, согласно которой постоянство объектов полностью формируется не раньше 18-24-месячного возраста. Но результатом подобных атак часто была лишь демонстрация того, что Пиаже мог ошибаться относительно того, когда появляется конкретная когнитивная способность, но не того, существует ли она вообще. В конце концов, именно благодаря прозрению, изобретательности и широте охвата, проявленным Пиаже, его теория остается в центре современной детской психологии. Хотя, возможно, эта теория более не привлекает внимание всей области, как ранее, но его идеи занимают настолько центральное место в современной детской психологии, что стали практически неразличимы.