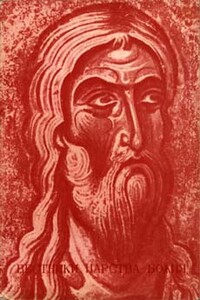Русская религиозная философия | страница 12
Соловьев изучает философию Спинозы, Шопенгауэра, крупнейших мыслителей Европы. И у него очень быстро создается собственная концепция развития философской мысли. Прежде всего, он отбрасывает материализм… Но я сказал «отбрасывает» — и выразился неточно. Дело в том, что Владимир Соловьев с юности до последних лет своей л<изни следовал принципу, который когда‑то был высказан философом и математиком Лейбницем. Лейбниц говорил: «Человек всегда не прав, когда он отрицает, особенно философ; и каждая доктрина, каждое учение наиболее слабо именно в том, что оно отрицает». Это был главный принцип жизни и мышления Соловьева.
На что бы он ни обращал свое умственное внимание: на социализм или учение о революции, на развитие старообрядчества или судьбу России, — он всегда брал оттуда нечто ценное, он понимал, что ничего нет на свете бесплодного и бесполезного, его мышление проходило под знаком того, что он сам называл «всеединством». Слово это многозначное, но в данном случае оно может означать для нас великолепное умение Соловьева созидать, синтезировать. Да, он много полемизировал, много выступал со статьями и даже целыми книгами против своих идейных противников. Но ни один из противников, которых он сразил, не оставался для него мертвецом — он всегда брал у него то, что считал ценным. Таким образом, очень быстро создавался синтез мысли. Это была открытая мысль, и она поразила университетских профессоров.
В то время, в 70–е годы XIX в., господствовал позитивизм, то есть учение, близкое материализму, хотя и не целиком тождественное с ним. Это учение о том, что последние истины, последние тайны (тайна Бога, бессмертия, духа) для человека непознаваемы, что человек познает только природу, и природа — это единственная реальность, доступная нам, а развитие мысли и философии заключается, в конечном счете, в развитии науки, естествознания. Все, что было до того, позитивизм считал отжившим (как, скажем, для современной техники отжившими являются устарелые инструменты производства, орудия труда). И вот, окончив университет, юный Соловьев бросает перчатку профессорам. Сначала он занимался в университете с естественным уклоном, его интересовало естествознание, но как мыслителя (уже тогда в нем зрел мыслитель) его притягивали главные тайны мира, а естествознание было только одним из кирпичиков огромного здания, которое он создавал.
Он появляется на кафедре. Темно–голубые глаза, густые черные брови, вытянутое худое лицо, падающие, как я уже говорил, на плечи волосы, почти иконописное лицо, длинный, немного нескладный юноша, производивший загадочное, странное впечатление! В те годы, когда он учился, он приезжал к нам, в Сергиев Посад, и там слушал некоторые лекции по богословию, философии (как свободно посещающий). И даже там, где люди с длинными волосами были отнюдь не редкостью, он производил какое‑то таинственное впечатление. Несколько раз он бывал в этом городе, живал у нас в Лавре, и ему там нравилось. Богословы и монахи его любили, а студенты уже позже, когда он стал знаменитостью, полублагоговейно, полуиронически раздавали в бутылочках воду, в которой он мыл руки, и говорили: это «вода Владимира Соловьева».