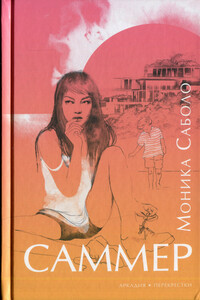В облупленную эпоху | страница 26
Вторая — ошеломила его, и он расплакался: это был даже не плач, а монотонная жалобная скорбь обиженного судьбой сироты, которому открылось: рядом с ним, в мяче, находилось то единственное, что осталось от живого отца, — его дыхание.
Он замкнулся. Не разлучался с мячом. Мама заставала Гришу спящим в обнимку с ним. Когда пробовала осторожно высвободить его из рук сына, тот просыпался с жалостным нытьем, исступленно цепляясь за черный шар. И она примирилась, отнесла эту причуду на счет переживаний сына, а их в эвакуации было немало.
Мария Гарегиновна, сероглазая, коротко стриженная шатенка, была моложе мужа на пять лет. Они не успели родить еще одного ребенка, но мечтали: Ефим о втором мальчике, она — о девочке. Мария Гарегиновна была наполовину еврейка, наполовину армянка, и они с мужем решили, что второму ребенку дадут армянское имя. Если будет мальчик, то имя ее отца — Гарегин, для всех он будет Гариком. Родится девочка — назовут ее Маринэ, звать будут Мариночкой. Родители Марии Гарегиновны погибли в буйную эпоху молодого совдепа, когда девочке было пять лет, выросла она в Одессе в окружении трех еврейских тетушек, о судьбе которых теперь можно было только догадываться.
Война не умалила ее красоту, явно не русскую, только заострила черты. Природная снисходительность помогала ей в Ирбите сносить оскорбления в свой адрес, будь то на базаре, где она выменивала на жалкие кучки и кусочки привезенные вещи (среди других — милую желтоглазую чернобурку, крепдешиновые платья и постельное белье), или в очередях за продуктами по карточкам и по аттестату. И когда сын заявлялся в слезах, она с затаенным негодованием, но внешне спокойно, облегчала Гришины обиды доступными его возрасту размышлениями о человеческой природе.
Мама убеждала: ребята не злые, злая — война, которая всех ожесточила, вот они и срывают зло на тех, кто на них не похож. Главное не то, что говорят о тебе, а то, как ты сам к себе относишься. Гриша тогда не все понимал, но ее слова и раздумчивая интонация его успокаивали.
(Григорий Ефимович с неизменным удивлением вспоминал о педагогическом такте матери, которая уберегла его тогда от озлобления и презрения к людям, — ему ведь надлежало жить и жить, — и которая, хоть и была начитана, слыхом не слыхала о Святом Августине, Фрейде и Юнге, тем более о Викторе Эмиле Франкле, которому к тому же…)
Обмороков больше не было. Но и того, внезапного, хватило, чтобы мяч вызывал у него тревожное ощущение связи с отцом. Теперь это был не только мяч, а вместилище всего, что было, и того, что, как знать, может произойти. На что нельзя не надеяться. Вернулся ведь инвалидом сосед, похороненный извещением о смерти!