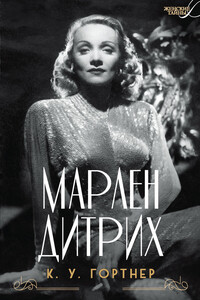Откровения Екатерины Медичи | страница 16
Уже были приготовлены комнаты, выходившие окнами на вытоптанные сады, и меня ожидали фрейлины — женщины благородного происхождения, готовые исполнить любое мое пожелание.
Среди них была Лукреция Кальваканти, светловолосая гибкая девушка с ясными голубыми глазами; она сообщила, что мой дядя, его святейшество, еще не вернулся из Орвието, но велел позаботиться о моих удобствах.
— Боюсь только, что мы немного можем предложить, — прибавила она, улыбнувшись. — Папские покои подверглись нашествию мародеров, все ценное разграблено. Однако у нас в достатке съестного, так что мы можем считать себя счастливчиками. Для тебя, герцогиня, мы сделаем все возможное, хотя, опасаюсь, на шелковые простыни сейчас рассчитывать не стоит.
Лукреции было пятнадцать лет, и она разговаривала со мной как со взрослой женщиной, которую не нужно оберегать от суровой правды. Я оценила такое обращение по достоинству, ибо не желала, чтобы со мною нянчились и кормили сказками.
Очутившись в спальне, я села на кровать и долго следила за тем, как солнце медленно опускается за поросшие соснами холмы Рима.
Затем достала письмо тетушки — несколько строчек, начертанных дрожащей рукой умирающей.
«Дитя мое, боюсь, в этой жизни мы уже больше не свидимся. Однако я всегда буду любить тебя и знаю, что Господь в милосердии Своем тебя не оставит. Помни, ты — Медичи и тебе суждено достичь величия. Ты моя надежда, Екатерина. Не забывай об этом».
Я прижала письмо к груди, свернулась калачиком в постели и проспала без перерыва одиннадцать часов. А проснувшись, увидела, что на табурете у моей кровати сидит Лукреция.
— Ты перенесла немало горя, — будничным тоном проговорила она, — но теперь тебе следует жить сегодняшним днем, как бессловесные твари Божьи.
— Как это возможно? — тихо спросила я. — Ведь я не животное и слишком хорошо знаю, что может принести завтрашний день.
— Значит, тебе следует этому научиться. Нравится нам это или нет, госпожа моя, но сегодняшний день — это все, что у нас есть.
Лукреция протянула руку и взяла у меня измятое письмо.
— Я положу его куда следует, — сказала она и вышла, забрав других фрейлин, чтобы оставить меня в одиночестве.
Совсем рядом, буквально за стеной, утопал в крови Рим, но здесь, в этой комнате, я впервые за очень долгое время ощутила себя в безопасности.
К прибытию папы Климента я уже совершенно оправилась от пережитого.
В обшарпанном канделябре тускло горели свечи. Я приблизилась к папскому трону и опустилась на колени, но папа Климент жестом велел мне подняться. Повиновавшись, я пристально разглядывала его и силилась вспомнить, каким он был раньше, отыскать в его внешности какие-то перемены. Он бежал из Рима и вынужден был наблюдать издалека за тем, как императорские войска разоряют его город, однако сейчас, мне так казалось, дядя выглядел будто после отдыха в сельской глуши: на высоких скулах играет румянец, тронутая сединой бородка окаймляет полные сочные губы. Белоснежные одеяния, ниспадавшие многочисленными складками, были безукоризненно чисты; преклоняя колени, я мельком заметила на ногах дяди бархатные, шитые золотом туфли. И только встретившись с ним взглядом, я наконец распознала следы недавнего изгнания: яркие, голубые с зеленым отливом глаза его были сужены, смотрели испытующе и остро, и в этот миг я поняла, что прежде вообще не знала его. Дядя, должно быть, испытывал те же чувства. Он глядел на меня так, словно я ему чужая, и объятия его оказались невыразительны, без капли чувства.