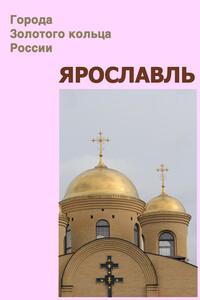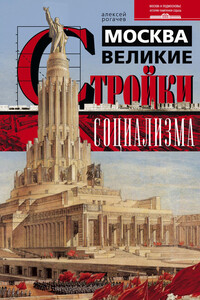Грибы, мутанты и другие: архитектура эры Лужкова | страница 23
Я называю современные панельные районы массивами – от устойчивого выражения «жилые массивы». Перед застройщиками не стояла задача создания жилых структур. Поэтому жилые массивы в постсоветском обществе становятся просто массивами. Массивами квадратных метров.
Развитие массивов начинается с нового Закона об административно-территориальном делении Москвы (1991), который изменил структуру взаимоотношений горожан и власти. Вместо 30 районов советского времени в Москве появились 10 административных округов, состоявших из округов муниципальных. И префекты, и главы управ получали свои должности по распоряжению мэра Лужкова. Иными словами, московская вертикаль власти была выстроена лет на десять раньше, чем федеральная. Новая двухступенчатая система, по сути, лишала власти органы местного самоуправления. С другой стороны, только она давала возможность осуществлять по-настоящему масштабные проекты – вроде реконструкции кварталов. Такая жесткая иерархия позволяла контролировать как город в целом, так и каждый район в отдельности. Префект обеспечивал связь мэра с подчиненными районами. При этом сами жители районов из процесса управления были исключены. Предоставленные сами себе, они предприняли ряд хаотичных и неконтролируемых действий по освоению неучтенной территории между домами. В отличие от квартир дворы стали «ничейными» (двор не вписывается в масштабы принимаемых городом решений). Население начинает самозахват при помощи набора примитивных механизмов зонирования. Первый и самый простой – шлагбаумы и заборы. Крупные территории делятся на небольшие княжества размером с дом и придомовое пространство, в борьбе за которое возникают конфликты. Те, кто не способен объединиться для возведения преград, прибегают к другим методам. Автовладельцы в качестве главного инструмента захвата используют гараж-ракушку, появившуюся в начале 1990-х благодаря тому, что она подходила под определение «автомобильного тента». Основным типом взаимоотношений между людьми, объединенными общим жильем – многоквартирным домом индустриального типа, оказывается «борьба за машиноместо».
Массивы
Произошедшее в 1991 году укрупнение масштабов подчиняемых территорий приводит к увеличению площадей застройки. Массивы растут вширь. В 1995 году выходит постановление правительства Москвы о городской программе «Жилище», направленное на закрепление новых подходов к освоению территорий под жилую застройку. К 2000 году планируется увеличить жилую площадь до 20–21 квадратных метров на человека, обеспечить квартирами очередников, построить высококачественное жилье. В программе говорится о приоритетном строительстве малоэтажной плотной застройки, выводе до двух миллионов жителей в ближайшее Подмосковье за счет коттеджного строительства, сокращении типового строительства до 5-10 %, ориентации на потребителей среднего и высокого уровня доходов. Из всех заявленных пунктов реализуется только один – увеличение жилой площади. Массивы растут вверх. Появляются новые серии домов, средняя высота которых составляет 16–26 этажей. Один из первых постсоветских районов – Бутово, активно застраивающееся с 1992 года, к 2010-му занимает второе место в Москве по площади застройки и количеству квадратных метров. Идея низкоэтажной застройки будет отчасти реализована только в середине 2000-х, с приходом моды на таунхаусы. Эта попытка скопировать среднестатистический американский район с идеальными семьями выглядит комично на фоне азиатских мотивов многоэтажных башен. Поэтому на рынке недвижимости символизировать новый доступный тип жилья призваны красочные серии из панелей. Растет количество новых серий и их комбинаций. Массивы становятся нарочито разнообразными. В новой Олимпийской деревне (1997–1998) – гордости проектировщиков – использовано 139 разных элементов. Приоритетная гамма новой застройки – светло-зеленая, бежевая, розовая. Популярна отделка «под кирпич» – символ уюта и рукотворности. Живописные кварталы противопоставляются серой советской среде – разнообразие призвано замаскировать их неизменную суть.