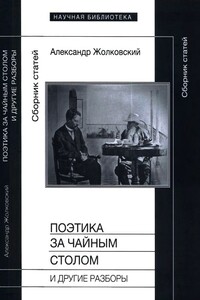Эросипед и другие виньетки | страница 9
В ответ на мое проснувшееся любопытство Михаил Александрович однажды изобразил, как Мандельштам с завыванием и озорным выделением похабной клаузулы скандировал строчки из «Зверинца»: Я палочку возьму суХУЮ/, Огонь доБУду из нее,/ Пускай уходит в ночь глуХУЮ/ Мной всполошенное зверье! В другой раз Александра Николаевна рассказала, как Мандельштам приходил занимать деньги.
— Бывало, истратится, придет перехватить десятку. Ну, Михаил Александрович ему дает. Он уходит, смотрим, — тут я ясно представил себе, как, поднявшись по лестнице из подвала, она смотрит вслед Мандельштаму, удаляющемуся вдоль дома и через скверик выходящему на улицу, — смотрим: он уже извозчика берет!
Неожиданная посмертная слава безалаберного Мандельштама задевала Александру Николаевну. В ревнивых тонах говорила она и о Пастернаке. В дни осенней травли 1958 года она возмущалась тем, что его письмо Хрущеву с отказом от Нобелевской премии, опубликованное в «Правде», начиналось словами «Уважаемый Никита Сергеевич!»:
— «Уважаемый»! Попробовал бы он Сталину так написать!
В счет Пастернаку Александра Николаевна ставила также то, как хорошо он устроился в эвакуации в Чистополе, где его можно было видеть разъезжающим в санях с «хозяйкой города» (женой предгорисполкома?).
Сурово обращалась она и с собственным мужем-поэтом. Как-то много позже, наверно, в начале 70-х, я встретил ее в скверике перед домом. Речь зашла об М. А. и выходе его книжки стихов.
— Он хотел мне подарить, но я не взяла. Он включил в нее те стихи, неприличные. Я говорила, чтобы он их не печатал. Он бегал их читать к Маруське Петровых. Вот пусть ей и дарит.
Я не помню, да, кажется, не понял и тогда, в чем состояла суть обвинения: в том ли, что Зенкевич «бегал» к Марии Петровых в эротическом смысле слова; в том ли, что он посвящал ей и читал у нее стихи, будь то любовные или нет; в том ли, наконец, что, ослушиваясь жены, позволял себе сочинять нечто рискованно амурное, неважно кому адресованное. В расспросы я не пустился и даже стихотворение идентифицировать не попытался (в специально просмотренном мной сейчас сборнике 1973-го года ничего даже отдаленно эротического нет). Запомнилось другое.
Меня поразила несвобода литературы от житейских обстоятельств. Ладно там Беломорканал, Воронеж, Гулаг, Жданов, нобелевская травля — на то и диктатура. Понятно и про «страх влияния» — бумаги не хватает, пишешь на чьем-то черновике, какая уж тут свобода?! Но чтобы восьмидесятилетний поэт, так ли, эдак ли проживший сквозь весь подобный опыт, должен был при составлении первой за многие годы самостоятельной книжки оглядываться на жену, — это было настоящим откровением. Слава богу, Зенкевич хоть тут не сплоховал и сориентировался на Маруську.