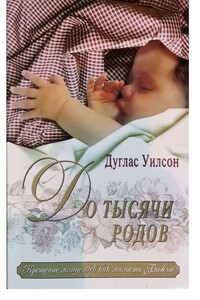Святитель Феофан Затворник и его учение о спасении | страница 58
Равным образом и когда святитель Феофан не служил сам, а лишь посещал богослужение в храме обители, молитва его была в высшей степени поучительна. Святитель закрывал глаза ради собранности ума и сердца и весь отдавался сладостной беседе с Богом. Глубоко погруженный в молитву, он как бы совершенно отрешался от внешнего мира, от всего окружающего. Нередко случалось, что инок, подносивший ему в конце литургии просфору, стоял несколько времени, дожидаясь, пока великий молитвенник снизойдет духом в наш дольний мир и заметит его [179).
С таким же усердием молился подвижник и в своей домашней церкви. Один из родственников, удостоившийся счастья молиться со святителем в его келейном храме, пишет: «Накануне (воскресения) всенощную в церковке совершал иеромонах–старичок, несколько певцов пели. Сам Владыка стоял посреди церкви со служебником в руках, мы стояли несколько в стороне, но так, что лицо молящегося святителя видно было. Взор его был направлен на иконы, но заметно, что он созерцал нечто высшее, духовное, на лице показалась краска, какая является во время духовного просветления. По всему видно, что святитель совершал умносердечную молитву, сопровождаемую иногда поклонами. Так простоял он всю службу, не садясь, хотя стул стоял возле, куда он клал служебник» [201, с. 121–122].
Благоустройство и монастырская тишина подействовали очень благотворно на душевное состояние подвижника, и он совершенно успокоился от жизненных треволнений, неизбежно связанных с деятельностью епархиального архиерея. Он охотно принимал к себе посетителей — родных и почитателей, искавших его духовных советов, вразумлений и наставлений; выходил из келии на прогулку, а иногда, хотя весьма редко, и выезжал. В 1871 году он совершил даже освящение храма на Екатерининском заводе и при этом произнес превосходное слово о назначении храма вообще и, в частности, новозданного. Есть также известие, что святитель Феофан ездил однажды из Выши в Тамбов, где служил и пробыл неделю.
Конечно, трудно было на первых порах совершенно отрешиться от мира, и были сильные порывы к возвращению в него. Тогда‑то возникла у святителя мысль снова занять кафедру. Но это были только временные, преходящие состояния, неизбежная дань обычной слабости человеческой природы перед полной победой над ней. Сознание долга скоро одержало верх, и колебания сменились настроениями иного рода. При подвигах поста и молитвы и при постоянных научно–литературных трудах все это быстро прошло. По крайней мере, в 1870 году, по свидетельству очевидца, епископ Феофан «настолько уже свыкся со своею жизнью на Выше, как будто с малолетства там поселился» [196, с. 502).