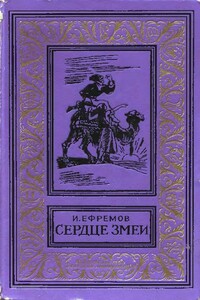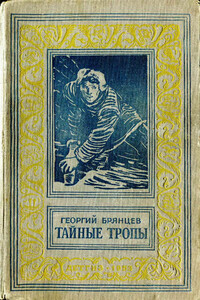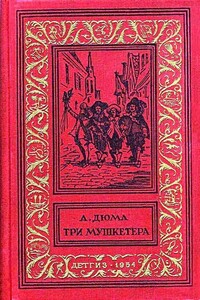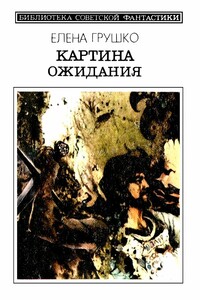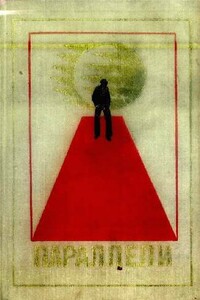Время, вот твой полет | страница 50
Брат узнал про бейсбольную перчатку и глиняного Тарзана только через две недели. И когда узнал, бросил меня одного за городом, среди фермерских полей, куда мы с ним отправились на прогулку, и ушел — бросил за то, что я такой остолоп. «Фигурки Тарзанов ему понадобились, бейсбольные перчатки! — бушевал он. — Больше ты не получишь от меня ничего и никогда!»
И где-то на сельской дороге я бросился на землю и разрыдался: мне хотелось умереть, чтобы вместе с рвотой меня покинула и моя несчастная душа.
Снова забормотал гром.
На холодные окна пульмана падал дождь.
Что еще? Или список закончен?
Нет. Еще одно, последнее, страшней всего остального.
За все те годы, когда в шесть утра Четвертого Июля ты прибегал к дому Ральфа бросить камешки в его окно, покрытое каплями росы, или в конце июля или августа звал его в холодную утреннюю голубизну станции смотреть, как прибывает на рассвете цирк, — за все эти годы он, Ральф, ни разу не прибежал к твоему дому.
Ни разу ни он и никто другой не доказал своей дружбы тем, что пришел к тебе. Ни разу никто не постучался в твою дверь. Окно твоей комнаты ни разу не вздрогнуло и не зазвенело глуховато от брошенного в стекло конфетти из комочков сухой земли и мелких камешков.
И ты твердо знал, что в тот день, когда ты перестанешь бегать к дому Ральфа, встречаться с ним на заре, ваша дружба кончится.
Однажды ты решил проверить. Не приходил целую неделю. Ральф ни разу не пришел к тебе. Было так, как если бы ты умер и никто не пришел к тебе на похороны.
Вы с Ральфом виделись в школе — и никакого удивления, ни вопроса. Самой маленькой шерстинки не хотело снять с твоего пиджака его любопытство. «Где ты был, Дуг? Ведь должен я кого-нибудь бить! Где ты пропадал, Дуг? Мне некого было щипать!»
Сложи все эти грехи вместе. Но особенно задумайся над тем, последним.
Он ни разу не пришел ко мне. Ни разу не послал ранним утром песни к моей постели, не швырнул в чистые стекла свадебный рис гравия, вызывая меня на улицу, в радость летнего дня.
И за это последнее, Ральф Андерхилл, думал я, сидя в вагоне поезда в четыре часа утра, когда гроза стихла, а у себя на глазах я почувствовал слезы, за это последнее и переполнившее чашу я завтра вечером тебя уничтожу.
Убью, подумал я, через тридцать шесть лет. О господи, да я безумней, помешанней Ахава!
Поезд надрывно завопил. Мы неслись по равнине, как механическая, на колесах, греческая Судьба, увлекаемая черной металлической римской Фурией.