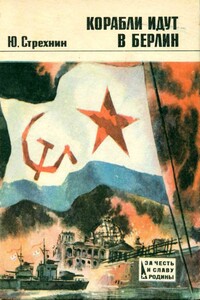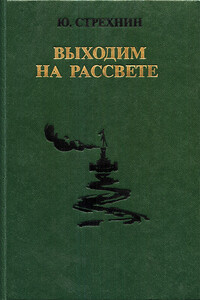Избранное в 2 томах. Том 2 | страница 177
Летом прошлого, сорок второго года в таком далеком теперь от нас Барнаульском училище на занятиях по тактике у нас главенствовала тема «Стрелковый взвод в наступлении». Но о том, что нам придется участвовать в большом наступлении, думалось как-то мало. Душевный настрой был иным: вести с фронтов шли нерадостные — нашими войсками оставлен Севастополь, немцы снова взяли Ростов, шли тяжелейшие бои на подступах к Сталинграду, враг наступал на Северном Кавказе… «Ни шагу назад, стоять насмерть!» — было лозунгом тех дней, и только об этом мы помышляли, готовые к тому, что в любой день наша учеба может быть прервана и эшелон помчит нас на запад, где и мы встанем насмерть.
Но сейчас, после сталинградской победы, настроение у всех изменилось. Наше большое наступление представлялось теперь делом вполне реальным, может быть очень близким. Вот почему занятиями по тактике боя в наступлении мы занимались охотно, можно сказать — с удовольствием, тем более что Ефремов проводил их интересно: он-то повоевал изрядно, с первого дня войны, накопил опыт, приводил множество живых примеров, так что можно было сразу представить настоящий бой. Вспоминая фронтовые случаи, Ефремов говорил увлеченно, взволнованно, и это помогало нам, даже без тех, кем нам предназначено командовать, вживаться в командирский образ, а это, наверное, полезно для любого дела — вживаться в образ того, кем готовишься стать.
Занятия занятиями, дела делами, а времени свободного, пока нам еще не кем было командовать, хватало. На досуге я вместе с Рыкуном продолжал практиковаться в немецком языке. Со студенческих времен у нас сохранились кое-какие познания, хотя и нельзя было похвастаться тем, что владеем языком хоть сколько-нибудь сносно, — знали мы его на том же, примерно, уровне, на котором знает большинство людей, изучающих иностранный язык шесть лет в школе и четыре-пять в вузе: то ли потому, что это у нас в крови трудная усвояемость чужого языка, то ли потому, что обучение иностранным языкам у нас зачастую ведется формально и неинтересно. Но сейчас-то у нас с Рыкуном был весомый стимул штудировать немецкий — влекла возможность самим, сразу на поле боя, допрашивать пленных, разбираться в захваченных документах и картах.
Врозь мы заучивали слова по словарю, вместе практиковались в разговоре, поочередно меняясь ролями пленного и ведущего допрос. Хотелось иметь побольше практики в переводе текстов. Но, увы, текстов-то у нас и не было. Моя хозяйка, видя мое усердие в занятиях немецким и понимая, из моих объяснений, чем оно продиктовано, жалела, что не сберегла оставшуюся от ее незваных постояльцев печатную продукцию.