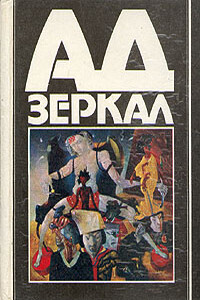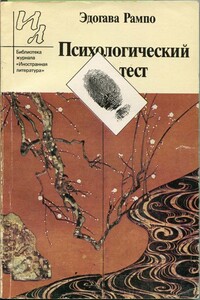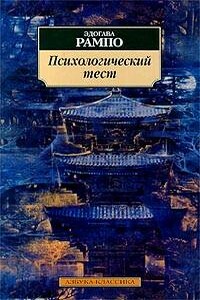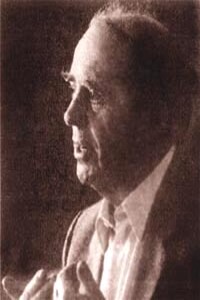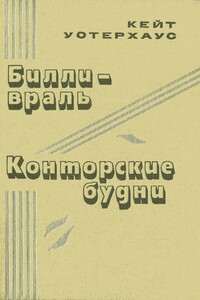Пионовый фонарь | страница 11
Все исчезло, все взял огонь возмездия — остались лишь буйные заросли пурпурных астр, возросших на человеческой крови…
Прежде чем погрузиться в волшебный мир теней и сновидений, попытаемся все же понять, почему столь жизнестойким оказался жанр «повествования о чудесном» в японской литературе.
Изменчивые климатические условия, географические особенности островной страны с частыми природными катаклизмами породили в глубокой древности благоговение перед духами — хозяевами природы. Слабые отголоски этого слышимы и ныне — например, в эстетических категориях (мономанэ — подражание вещам, мононо аварэ — очарование вещей), в традиционном искусстве, направленном не на преодоление материала, а на выявление его скрытой сущности. Именно в особенностях японской национальной психологии, японского менталитета, густо замешенного на мифологии, и следует искать, пожалуй, истоки живучести волшебной новеллы. Религия синто не умерла, — а значит, живо и мифологическое сознание.
Не следует сбрасывать со счетов и традиционный для Японии философский, религиозный и культурный синкретизм (как буддизм уживался и уживается с синтоизмом, как западная культура успешно сосуществует с традиционной восточной, так и «повествование о чудесном» отнюдь не вступает в противоречие с современной научной фантастикой). Но главное — это, пожалуй, выработанный веками уникальнейший японский механизм адаптации к заимствованным элементам чужеродной культуры. Упрощенно принцип его таков: переняв у других, наполнить собственным содержанием, — не уничтожая при этом прежнего, ибо перечеркнуть прошлое значит подрубить корни, питающие будущее.
Кстати, любопытно было бы сопоставить в этом аспекте историю японского «кайдана» с историей нашей, отечественной фантастической прозы. Ведь Запад (и Россия в частности) во все времена и эпохи с той же легкостью отбрасывал свое прошлое, с какой ящерица избавляется от собственного хвоста. Правда, прошлое все равно прорастало — спустя тот или иной промежуток времени. Мелкие корешки успевали засохнуть и утрачивались безвозвратно, но ствол был жив и пускал новые побеги. Это в полной мере относится и к фантастической традиции в русской культуре: мифологическая стихия отринутого язычества прорастала в волшебной сказке, обнаруживала себя в мощной фольклорной струе, пронизывающей все творчество Пушкина и Гоголя, в русской романтической новелле XVIII — начала XIX века, в «страшных рассказах» А. К. Толстого; фантастические мотивы А. Погорельского, О. Сомова, М. Загоскина, А. Бестужева-Марлинского (без колебаний задвинутых во «второй-третий ряд» и преданных забвению) в свою очередь обрели новую жизнь в произведениях романтиков первой четверти нашего века — В. Брюсова, А. Чаянова и других, а позднее выплеснулись, несмотря на мощные цензурные заслоны, в блистательную дьяволиаду М. Булгакова.