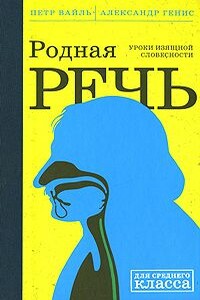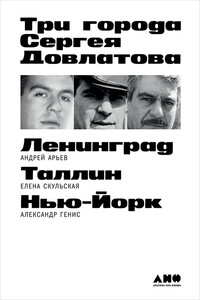Уроки чтения. Камасутра книжника | страница 82
20. Перипатетик
Сократ умел так глубоко задумываться, что современники считали его одержимым, а мы – кататоником. Однажды, во время неудачной кампании Пелопонесской войны, он размышлял всю ночь на морозе, не двинувшись с места. Тем же искусством владел Эйнштейн, который думал часами, не меняя позы. У Аристотеля, однако, мыслили прогуливаясь, и лично я предпочитаю перипатетиков, потому что даже в кино мне трудно усидеть на месте.
– Подвижный интеллект? – спросил я монастырского настоятеля.
– Monkey brain, – утешил он меня, сравнив с обезьяной, и отправил медитировать в лес.
Мне понравилось, и с тех пор я туда ухожу каждый раз, когда надеюсь найти для текста что-нибудь красивое. Его ведь из пальца не высосешь, а тут отвлекают окрестности. Когда страстно думаешь о своем, хорошо, если мешают посторонние. Внешнее загоняет внутреннее вглубь, где мысль преет, бродит и набирает градусы. Важное далеко не всегда нуждается в нашем присмотре. То, что и впрямь нужно, оккупирует нас целиком. Японцы призывают “мыслить животом”, что отчасти и делали писатели, сочиняя в кафе Парижа и Вены. В Нью-Йорке таких тоже хватает, но я стесняюсь, потому что, задумавшись, могу сесть за чужой столик и скорчить рожу. Поэтому мне лучше писать в одиночестве, причем – на ходу, подглядывая за природой.
Переведя сознание в писательский регистр, автор, как аналитик в сновидении, видит во всем метафору, только не известно – чего. Как будто пейзаж – подсознание человека. Как будто он умеет говорить, но не словами, а вещами – немыми и красноречивыми, вроде паутины, растянутой между двумя ветками молодой елки. Парусом раздувшись на ветру, она сделалась видимой благодаря налипшим росинкам. Белесые ниточки складываются в строгий, как решетка Летнего сада, узор. Но стоит влаге высохнуть, и паутину опять не видно. Разница в том, что ты знаешь: она была. Вернее – есть, и ее жесткая конструкция, как план романа, служит ловушкой для мыслей и наблюдений.
Цветаева видела замысел муравейником, куда каждая минута, подчиняясь творческому инстинкту, сносит свои впечатления. Я так и вижу этих бесконечно занятых, словно мысли, муравьев, быстро семенящих к их непропорционально огромному, как храм или мавзолей, дому. И каждый тащит лепту: намек, эпитет, образ, цитату.
Всякий раз, когда я еду в Манхэттен вдоль Ист-ривер, в районе Гарлема мне попадается на глаза молодой бездомный, основательно устроившийся на обочине шоссе. В дождь негр сидит под тентом из полиэтилена, в жару – без майки, в снег – укутавшись клочковатым одеялом. Над стойбищем висит рукописный плакат: “Я прочел больше вас”. Он и правда всегда погружен в книгу. Жаль, что на ходу мне не разглядеть – в какую. Одни видят в нем протест, другие – хеппенинг, третьи – упрек социальной службе (такой здоровый, а не работает). Но для меня этот Диоген из Гарлема – воплощение мечты, захватившей меня в детстве и опротивевшей в юности.