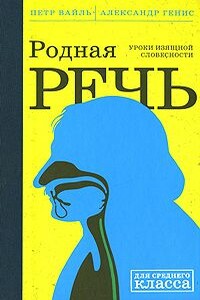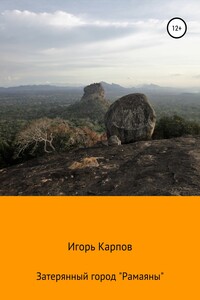Уроки чтения. Камасутра книжника | страница 57
Бродский считал, что стихи ускоряют мысль, но юмор – те же стихи. Смешное тоже нельзя пересказать, только – процитировать. От юмора тоже ждут не аргументов, а истины. И смех – тоже не от мира сего. Он проскакивает в щель сознания и берет внезапностью. Всякая неожиданность нас либо пугает, либо смешит. Одно связано с другим – мы веселимся от облегчения, уже оттого, что перестали бояться.
Однако любая книга, включая телефонную, где бывают фамилии вроде моей, кормится неожиданностями. Юмор делает их наглядными. Вот почему удачная шутка – неуместная. У юмора, собственно, и нет своего места, потому что он всегда вместо – вместо того, что нельзя сказать или даже крикнуть.
Не пороки и красота, не добродетель и зависть, а юмор умирает последним. Черный, как тень, он и следует за нами как тень – до конца. Когда студентом я писал свою первую работу, мне это еще не приходило в голову, но уже тогда моя брошюрка называлась “Черный юмор у протопопа Аввакума”: Присланы к нам гостинцы, – цитировал я “Житие”, – повесили на Мезени двух детей моих духовных. Много лет спустя, уже в Париже, выяснилось, что Синявский любил это место и часто вспоминал Аввакума в Мордовии.
14. Путевое
Дождавшись пенсии, отец вновь перебрался с запада, из Нью-Йорка, на восток и поселился у моря в Лонг-Айленде. Рыбалка и мемуары поделили его досуг. По утрам, не отвлекаясь от Жириновского по московскому радио, отец ловил мелкую рыбешку, которую мама жарила так, что возле моей тарелки росла гора костей, как на холсте Верещагина “Апофеоз войны”. Днем отец, не отвлекаясь от козней Жириновского, вытаскивал из канала угрей, которых мама так коптила, что не оставалось даже костей. Но по вечерам, когда Жириновский спал, и рыба тоже, отец описывал прошлое. Его накопилось на 900 страниц, которые он объединил неоригинальным названием “Mein Kampf”. С евреями это бывает.
Рукопись пухла на глазах и составляла упоительное чтение. Отец писал про две (третью он опустил, чтобы не огорчать маму) главные страсти в его жизни – еду и политику. Он помнил все вкусное, что съел, и каждую гадость, учиненную советской властью.
С последней у отца сложились амбивалентные отношения. Особенно в те годы, когда он проектировал локаторы. У американцев атомная бомба уже была, у Сталина – еще нет, и локация считалась спасением, но отца все равно выгнали – за сомнения. При Хрущеве его выгнали тоже. Как и при Брежневе. Сомнения рассеялись только в Америке, но тогда было уже поздно, и отец с наслаждением описывал советскую историю, невольным (других не было) свидетелем которой он стал.