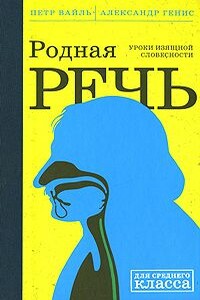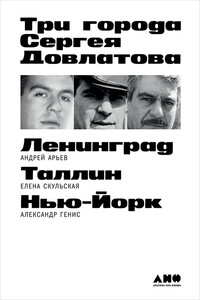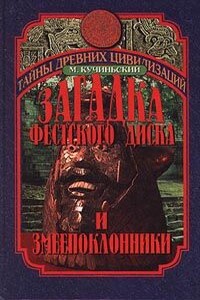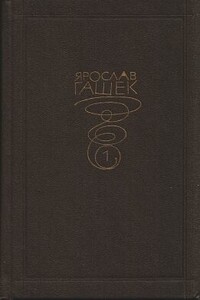Уроки чтения. Камасутра книжника | страница 104
Ну, подумайте, подумайте сами, – говорит Хамм в “Эндшпиле”, – вы ведь все равно здесь, на земле, от этого нет спасения. Нет его и выше, отвечает Ларс фон Триер и приглашает в шалаш, чтобы перевести дух перед занавесом.
25. Диссидент
Перед отъездом в Америку я совершил сделку редкого интеллектуального идиотизма – обменял любимые книги на необходимые: O’Генри – на Писарева, Фолкнера – на Белинского, восемь томов Джека Лондона – на девять Герцена. Не веря своему счастью, выигравшая сторона не удержалась от вопроса.
– Этого я наемся у стен Вероны, – отодвинув макароны, сказал кадет Биглер, когда узнал, что Италия перешла на сторону Антанты, – ответил я цитатой из Швейка, которая означала, что американцев я буду читать в оригинале. Как, впрочем, и Герцена.
Герцен действительно поддерживал меня на чужбине, причем буквально, потому что в нашем бруклинском жилье-подвале не было мебели, и первый Новый год в США мы встречали, сидя на стопках книг. Чувствуя под собой разъезжающийся коричневый девятитомник, я знал, что для него придет время.
Оно действительно пришло, но лишь тогда, когда я накопил столько былого и дум, что решился сравнивать.
Герцена можно читать только на свободе. В России смешно (если тут подходит это слово) сравнивать – мешает нажитый с помощью больной истории комплекс, который Томас Манн называл “высокомерием страдания”.
В рижском музее оккупации на нарах лежат муляжи, изображающие лагерный быт сосланных латышей.
– Туфта, – сказал мне об этом сердитый отставник, – ну, посудите сами, кто бы им сооружал нары – на земле поспят.
Нужна изрядная временная и пространственная дистанция, чтобы непредвзято прочесть “Былое и думы”, но и тогда это не просто.
Герцен презирал Маркса и его “марксидов”, не знал Ленина и не дожил до победившей революции. Это его извиняет только отчасти, потому что все равно мне трудно читать про то, как он мечется по Европе, стараясь зажечь, где получится. Если для xix века Герцен – Овод, то XXI мерещится бен Ладен.
Чаще, впрочем, Герцен напоминает Чацкого: Случалось ли, чтоб вы, смеясь? или в печали? ошибкою? добро о ком-нибудь сказали? И это правильно! “Былое и думы” – прежде всего комедия, причем даже не столько нравов, сколько характеров: автор никогда не пройдет мимо смешного лица. Уже этим отец диссидентов радикально отличается от их деда – Радищева, который тоже пытался острить, но неудачно: его душила ярость человечества. Герцен, который умел ненавидеть не меньше, не орудовал веслом с лопатой. Как рапира, его злость у́же и тверже. Поэтому русская часть книги полна злодеев убийственно нелепых и в принципе смешных, начиная с самого царя.