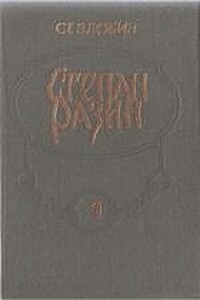Мой Петербург | страница 89
Наш современник, философ Игорь Евлампиев, размышляя о загадке, о феномене Петербурга, пишет, что «самый последний бродяга, не имеющий своего угла, является таким же творцом Города, как и прославленный архитектор, застроивший его великолепными дворцами, — разница лишь в „материале“, в котором находит воплощение творческий порыв их жизни; Город, как и Вселенная, включает в себя и сияющие звезды, и пылевые туманности, смысл его существования в равной степени определяется и теми, и другими».
А Крестинский
Вот опять окно…
Вот опять окно,
Где опять не спят.
Может — пьют вино,
Может — так сидят.
Или просто рук
Не разнимут двое.
В каждом доме, друг,
Есть окно такое…
М. Цветаева
Свет за окном, свет в окне, тепло городских окон… Всё это мы скорее чувствуем, чем задумываемся об этом. Городские окна входят в нашу жизнь, в наш быт так рано и становятся такими привычными, что трудно подумать о них как о чём-то значимом, важном. На всю жизнь с нами остаются окна нашего детства, как первые книги, как соприкосновение с миром, с городом.
Мы не выбираем себе окна. Они достаются нам по жизни, по судьбе. Кому-то высокое, старинное, с арочным завершением и медными шпингалетами, обращённое к проспекту или площади. А кому-то — небольшое окно во двор, в тихий переулок.
Можно ли сказать: петербургское окно? Наверное можно, потому что окна не существуют сами по себе. Окно есть окно, по словам Павла Флоренского, поскольку за ним простирается область света. И тогда самое окно, дающее нам свет, есть свет. А вне отношения к свету, вне своей функции, окно мертво, это просто дерево и стекло. Так и вне нашей жизни, вне города, вне дома не может быть окна. Окно незаметно становится символом детства, юности, счастья или беды.
К какому бы окну мы ни подходили в нашем городе — во дворце, институте, школе, библиотеке, или просто в квартире, что приютилась в маленьком дворовом флигеле, — это всегда будет окно петербургское, потому что за ним — петербургская улица, двор, или пространство Невы.
Александр Бенуа, вспоминая родительский дом на Никольской улице (позже — улице Глинки), писал, что в углу залы его отец — архитектор Николай Леонтьевич Бенуа — пробил в стене маленькое окошко нарочно для того, чтобы можно было любоваться видом на всю улицу и на Театральную площадь.