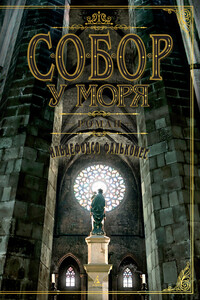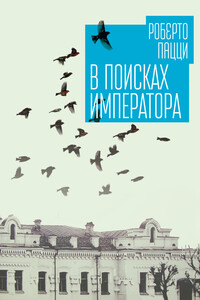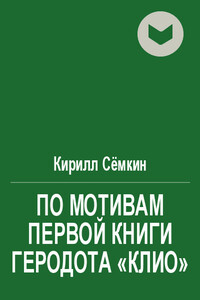Мой Петербург | страница 80
Через полвека после этих записок так и случилось — погасло всё. В 20-е годы нынешнего века Петербург умирал — дряхлеющий, лишённый имени. Уже война уничтожила чужеродный «бург», скомпрометировала немецкую науку. «Город форменных вицмундиров, уютных василеостровских немцев, шикарных иностранцев — революция слизнула его без остатка, — писал в эти годы русский философ Георгий Федотов, — но тогда и слепому стало ясно, что не этим жил Петербург». Странники создали исключительный город. «Для пришельца из вольной России этот город казался адом. Он требовал отречения… Умереть для счастья, чтобы родиться для творчества… Если бы каждый дом здесь поведал всё своё прошлое — хотя бы казенной мраморной доской, — прохожий был бы подавлен этой фабрикой мысли, этим костром сердец. Только коренные петербуржцы — есть такая странная порода людей — умели как-то приспособиться к почве, создать быт, выработать защитный цвет души… Весь воздух в этом городе до такой степени надышан испарениями человеческой мысли и творчества, что эта атмосфера не рассеивается целыми десятилетиями. Эти стены будут еще притягивать поколения мыслителей и созерцателей».
Дороги опять устремились к Петербургу. Действительно, город опустел в голодные послереволюционные годы. Петербуржцы тогда чувствовали: Москва — на краю света, Украина едва ли вообще существует, но близки, ощутимы Ладога, Новгород, Псков, Белозерск, Вологда, чьи говоры сливаются на питерских рынках (Г. Федотов).
Ожили институты, университет, музеи… Опять сюда ехали учиться и работать. Глядишь, через год-другой в каком-нибудь псковитянине или Вологжанине появлялось что-то питерское. Город ещё успевал передавать знания. Нужно было торопиться. Потому что началось страшное насилие поэтапного уничтожения Петербурга. Слишком он опасен был своей окраинностью, тревожной неоднозначностью, активностью работы души. И начались высылки, репрессии, эмиграция. Это было начало нового странствия Петербурга в душах и памяти горожан.
Летопись этих скитаний продолжила эвакуация во время блокады Ленинграда. Горожане увозили с собой частичку своего города. Рассеянные по пространствам России, по свету, они оставались невидимо связанными со своим городом.
В редакции журнала «Нева» рассказывали, что, когда он был ещё всесоюзным, самое большое число его подписчиков находилось за Уральским хребтом. Такая потребность была в связи с городом, в ощущении его пульса, дыхания.