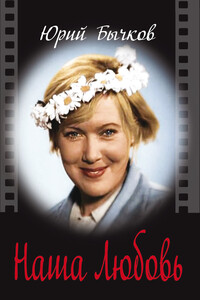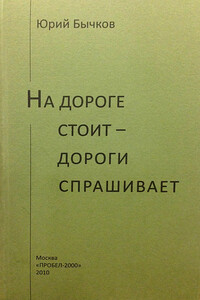Коненков | страница 16
Три версты полевой проселочной дороги до Екимовичей, а там — большак, веселей потрусил Пегарка.
Подъезжая к деревне Буды, издалека услышали перезвон молотков и бухающие удары молота по наковальне. У самой околицы — кузня. Кузнецы, чумазые от копоти, крепкие, улыбающиеся, в кожаных фартуках, вышли на свет.
— Харитон Петрович! Иван Тихоныч! Мое почтение! — снял шапку дядя Андрей.
— Андрей Терентьевич, куда везешь племянника?
— В Рославль, на экзамен. Будет поступать в гимназию.
— Ну, в добрый путь.
Телега снова затарахтела по булыжникам Московско-Варшавского тракта. Сергей прощался со знакомыми местами, примерялся к предстоящей жизни. Не окажется ли он среди городских сверстников-гимназистов неучем, деревенщиной? Наверное, это напрасное опасение. Семи лет от роду, когда умерла его мать, он попал в богатый барский дом Шупинских. Осиротевшего Сергея, любимого племянника, взяла к себе на время тетка Мария Федоровна Шупинская. Не забылось, как по анфиладе зал и комнат усадебного дома в Никольском его вели двоюродные братья Сережа и Костя. В торжественных залах на специальных подставках стояли скульптуры. Братья называли их: «Венера Медицейская», «Аполлон Бельведерский», «Три грации», «Амур и Психея». По стенам висели потемневшие от времени портреты. Всюду было много цветов. За большим обеденным столом ели серебряными ложками из фаянсовых тарелок.
В десять лет он оказался в доме помещиков Смирновых и прожил здесь почти год. Кого только не повидал и что не услыхал здесь за время занятий с семинаристом Алексеем Осиповичем Глебовым. Соседи помещики, присяжные поверенные, купцы и лесопромышленники частенько заглядывали к Смирновым на огонек.
Велик ли духовный, жизненный багаж одиннадцатилетнего деревенского мальчика Сергея Коненкова, которого ясным осенним днем далекого 1885 года его дядя Андрей Терентьевич везет в Рославль поступать в гимназию? Видим, что он отнюдь но скуден. Многое он взял от крестьянской жизни, крестьянской культуры. Песни и сказки, пляски и игры русской деревни — с ним. Поэзия этого мира щедро открылась ему. Но в нем по было крестьянской ограниченности. Жизнь уже в ранние годы столкнула его с представителями всех сословий. И учили его, будто нарочно, так, чтобы всеми гранями преломилась в нем необходимая для превращения крестьянского ребенка во всесторонне развитого человека наука: и по-церковнославянски, и по нормам светской школы, и по-помещичьи — с учителем-гувернером. Трудолюбие, истовое, крестьянское, вошло в него с молоком матери. Знал он неоценимые мальчишечьи радости: купание дни напролет и ночное, молчаливую близость к обитателям леса и шумные игры.