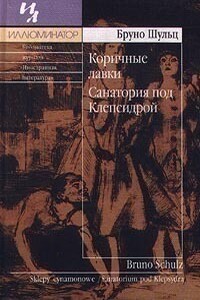Трактат о манекенах | страница 28
Там это было, там я увидел его в первый и последний раз в жизни, в обеспамятевший от зноя полуденный час. То был миг, когда дикое, ошалевшее время вырывается из тюрьмы событий и, точно беглый бродяга, с воплем несется напрямик через поля. Тогда лето, оставшись без надзора, разрастается без меры и счета на всем пространстве, с яростной стремительностью разрастается во всех точках, удваивается, утраивается, врастает в какое-то иное, выродившееся время, в неведомое измерение, в помешательство.
В такие часы мной овладевала страсть к ловле бабочек, мания погони за этими мерцающими пятнышками, за обманными белыми лепестками, неловко трепещущими в раскаленном воздухе. И случилось так, что одно из таких ярких пятнышек распалось в полете на два, потом на три, и это дрожащее, ослепительно белое троеточие повело меня, словно блуждающие огоньки, сквозь бешенство горящих на солнце чертополохов.
Только у границы лопухов я остановился, не смея нырнуть в глухой их провал.
И тут я увидел его.
Погруженный по грудь в лопухи, он сидел на корточках прямо передо мной.
Я смотрел на его толстые плечи, обтянутые грязной рубахой, на засаленный драный сюртук. Он сидел, словно затаившись перед прыжком, — сгорбленный, как бы придавленный огромной тяжестью. Тело его напряженно дышало, а по медному, лоснящемуся на солнце лицу струился пот. Замерев, он, казалось, тяжко трудился, боролся без единого движения с каким-то непомерным бременем.
Я стоял, пригвожденный к месту его взглядом, вцепившимся в меня, словно клещами.
У него было лицо бродяги не то пропойцы. Грязные лохмы дыбились надо лбом, высоким и выпуклым, точно обкатанный рекою валун. Но лоб его был исполосован глубокими морщинами. Не знаю, что — боль, жгучее ли солнце или нечеловеческое напряжение — так исковеркало его лицо и так напрягло черты, что казалось, они вот-вот треснут. Черные его глаза впивались в меня с натугой то ли безмерного отчаяния, то ли муки. Они смотрели на меня и не смотрели, видели и не видели. Чудилось, глазные яблоки его вот-вот лопнут — от высочайшей упоенности болью, а может, от дикой сладости вдохновения.
И вдруг из этих напрягшихся черт неловко, боком вылезла страшная, изломанная страданием гримаса, и эта гримаса стала расти, вбирая в себя и вдохновение, и безумие, разбухала ими, все лезла, лезла, пока не вырвалась наружу рыкающим, хриплым кашлем смеха.
Потрясенный до глубины души, я смотрел, как, давясь хохотом, он медленно поднимается с корточек и, сгорбившись, точно горилла, придерживая спадающие штаны, огромными прыжками мчится через лопочущие полотнища лопухов — Пан без свирели, испуганно убегающий в родимые дебри.