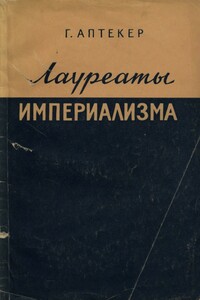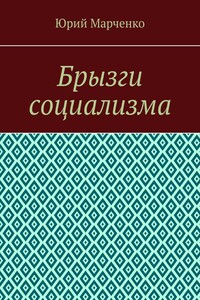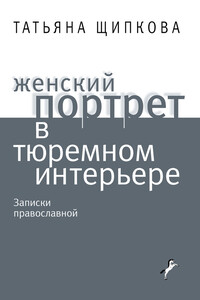Заря над бухтой | страница 5
Давненько это было, сорок лет назад. И вот иду я сейчас по заводу, а сам глазами изумленными по сторонам смотрю. Цех тут, цех там. И все большие, красивые! Но стоп! Вот тут же я будто вчера тачку с бетоном катил. Да все бегом, по доскам… А здесь землю копал…
Нет, как все-таки бежит время. Дети вот уже какие стали. Орлы. Из четырех один только старший от Камчатки отбился. Институт закончил, в Эстонию направили. А трое Пономаревых здесь, рядом со мной. Меньший на слипе, стало быть, суда поднимает, дочь старшая в охране службу несет. Правда, меньшая пока на распутье, десятилетку недавно окончила. Ну, а Ефросинья моя всю жизнь, как и я, на верфи проработала. Отсюда и на пенсию ее проводили.
Душой не кривлю: не жалею я о прожитом.
Помню, при распределении в институте спрашивают: «Куда, молодой человек, путь хотел бы держать?» С ответом я не колебался. «На север», — говорю. Считал, что к жизни суровой подготовлен. Ведь, как-никак, а с тринадцати лет на астраханской бирже труда я был прописан. Всякой работенкой занимался. На побегушках был. А то однажды пуд ржавых гвоздей за десять копеек взялся выпрямить. Так что трудности меня не пугали.
…Восемь дней пароход «Ильич» добирался до Авачинской бухты. Высыпали мы на палубу и спрашиваем друг друга: «Слушай, а где ж Петропавловск?» Искал я привычные глазу многоэтажные дома, ряды улиц, машины. А тут тихо, безмолвно. Огромные сугробы, которых и отродясь не видывал, струйки дыма из труб да редкие прохожие. — Ну и влипли, — досадливо протянул мой дружок Николай Романов. — Забросил нас леший. Жить-то где?
— В палатках, — говорю.
— Выходит, ты знал, а мне ни слова?!
— Знал, — а сам посмеиваюсь.
Кое-как сколотив деньжат на дорогу, он той же осенью убрался восвояси. А я на верфи остался.
И вот как-то однажды директор вызывает к себе и спрашивает:
— Ну, как, инженер, осваиваешь Камчатку?
— Все ничего, — отвечаю, — да только то плохо, что книжек читать некогда. Днем работа, а вечера в потемках проводишь. Свет-то никудышный.
— Прав, никудышный. Вот и займись нашей электростанцией. Ты же ведь инженер.
— Да, вроде по мне работенка, станция, как-никак, дело близкое — механика.
— Оно-то так, — напутствовал директор. — Но смотри, участок наитруднейший и важный. Полной отдачи потребует.
Конечно, к трудностям я был готов, но все же не представлял, до какой степени было запущено хозяйство электростанции. Здание полуразрушено, двигатели смонтированы кое-как, форсунки и поршневые кольца сбиты, сдвинуты. Казалось, будто кто-то специально это сделал. А сами работники? Грязные, закопченные. Без дела слоняются по машинному залу. Вот в такой обстановке и принялся я со своими помощниками инженером Антоновым и машинистом Чепенковым чинить и латать «сердце завода». Станция вскоре ожила, свету больше стало. А коллектив ее стахановским прозвали.