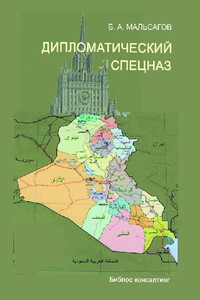Дау, Кентавр и другие | страница 55
Расскажу о теории, созданной Ландау, можно сказать, на моих глазах. Речь идет о теории квантовой Ферми-жидкости. К 1956 г. накопились экспериментальные данные о жидком гелии, состоящем из изотопа с т — 3 (Не>3), которые не укладывались в картину идеального газа элементарных возбуждений. Однажды Ландау появился в моей комнате в ИФП и начал быстро писать на доске законы сохранения, вытекающие из кинетического уравнения для элементарных возбуждений. Оказалось, что закон сохранения импульса не выполняется автоматически. А на следующий день у него уже был ответ. Картина идеального газа для фермиевских возбуждений не проходила, необходимо было учитывать их взаимодействие с самого начала. Так возникла одна из элегантнейших теорий Ландау. Поскольку теория складывалась на наших глазах и обсуждалась поэтапно, у нас, его учеников, возникло чувство сопричастности к ее созданию. Совместно с А.А. Абрикосовым мы вскоре применили теорию Ландау для исследования конкретных свойств Ферми-жидкости. Хотя в то время у нас и возникло впечатление, что Ландау создал теорию на наших глазах, я все же думаю, что за всем этим стояла его домашняя подготовительная работа. Однако часто работы Ландау действительно возникали в результате импровизации. Такие импровизационные расчеты Ландау дарил тем, кто ставил перед ним задачу.
Работы Ландау отличала четкость и простота изложения. Он тщательно продумывал свои лекции и статьи. Как известно, сам он не писал своих статей. К этой ответственной работе привлекались его сотрудники. Чаще всего это делал Е.М. Лифшиц. Мне же посчастливилось писать с Ландау две его известные статьи, посвященные двухкомпонентному нейтрино и сохранению комбинированной четности. Ландау обдумывал и обсуждал со мной каждую фразу, и лишь найдя наиболее ясную формулировку, считал возможным зафиксировать ее на бумаге. Таким образом он не только оттачивал стиль изложения, но и попутно находил вопросы, нуждавшиеся в дополнительном разъяснении.
На нескольких приведенных примерах можно проследить, как работала творческая лаборатория Ландау. Во всяком случае, его взаимоотношения с учениками отнюдь не сводились к тому, что он «выдавал» идеи, которые ученики подхватывали и разрабатывали.
Когда в 1962 г., после автомобильной катастрофы, стало ясно, что Ландау уже не вернется к занятиям теоретической физикой, перед его ближайшими сотрудниками встала серьезная задача — сохранить школу Ландау с ее традициями. Хотя среди учеников Ландау были уже зрелые и крупные ученые, никто из них не смел и думать о том, чтобы заменить его в качестве лидера. Важнейшая и труднейшая задача состояла в сохранении лишь того высокого научного стандарта, присущего школе, в сохранении научного коллектива, который обеспечивал этот стандарт. Постепенно мы пришли к естественному заключению, что только коллективный ум может заменить могучий критический ум нашего учителя. Таким коллективным умом мог стать специальный институт теоретической физики. Эта идея получила поддержку руководства Академии наук СССР, и осенью 1964 г. Институт теоретической физики (ИТФ) был организован.