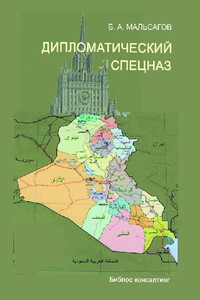Дау, Кентавр и другие | страница 50
Хотя о теоретическом минимуме Ландау уже не раз писалось, я здесь останавливаюсь на его истории потому, что создание теорминимума послужило основой для возникновения того, что называют школой Ландау. Практически все его ученики и сотрудники, образовавшие эту школу, прошли через теорминимум. Школа Ландау возникла не стихийно, она была задумана, запрограммирована, как теперь говорят, и теорминимум стал механизмом, позволявшим производить в течение многих лет селекционную работу — собирание талантов. Из школы Ландау вышло много известных советских физиков-теоретиков. Некоторые из них возглавили после другие школы, придав им свой, специфический характер. Постепенно с развитием теоретической физики школа Ландау также эволюционировала. Однако мне сначала хотелось бы остановиться на стиле работы Ландау и его учеников в первые послевоенные годы, когда мне посчастливилось у него учиться и сотрудничать с ним.
Прошу читателей извинить меня за некоторые подробности личного характера, которые мне придется привести, но они, как мне кажется, дают некоторое представление о стиле работы Ландау. Впервые я познакомился с ним осенью 1940 г., когда приехал к нему в Институт физических проблем (ИФП) с письмом от моего первого учителя — профессора Днепропетровского университета Б.Н. Финкельштейна — для сдачи теоретического минимума. В два приема, осенью 1940 и весной 1941 г., я его сдал. У нас в Днепропетровске студенты-физики знали о теорминимуме. Студенты более ранних выпусков ездили в Харьков, где готовили дипломные работы и сдавали теорминимум. Преподавание теоретической физики в Днепропетровском университете строилось на основе харьковских лекций Ландау. Можно сказать, не боясь штампа, что слава Ландау тогда уже гремела. Как я уже писал, после сдачи мною последнего экзамена Ландау дал мне рекомендацию в аспирантуру. Но началась война, которая помешала мне сразу начать учебу. Осенью 1945 г. я был зачислен в аспирантуру Института физических проблем, и с той поры до дня трагической катастрофы, в которую попал Ландау в январе 1962 г., тесно сотрудничал с ним.
Ландау лично вел учет сдающих экзамены теорминимума. Отмечалась только дата сдачи того или иного экзамена, отметки не выставлялись. В особых случаях ставились восклицательные либо вопросительные знаки. Если у сдающего набиралось три вопросительных знака, то он считался непригодным для занятий теоретической физикой. Наступал самый неприятный момент — надлежало объявить ему об этом. Экзамены принимали ближайшие сотрудники Ландау, за исключением самого первого экзамена по математике, когда Ландау лично знакомился со сдающим. Наиболее неприятную функцию объявления сдающему экзамены о его непригодности к занятиям теоретической физикой Дау всегда брал на себя. Можно себе представить, что значило для начинающего физика-теоретика услышать от Ландау, что он не рекомендует ему заниматься теоретической физикой. Как-то я сказал Ландау, что он жестокий человек, поскольку считал, что для доброго человека такая обязанность была бы не по силам. Ландау возмутился, выбежал от меня и долго в коридоре ИФП всем встречным говорил: «Вы подумайте, Халат говорит, что я жестокий человек!» Кстати, как-то я спросил Дау, как он поступал в тех случаях, когда у него проходили чувства к женщине. Он ответил, что прямо ей об этом объявлял. Я опять сказал, что так поступать жестоко. Да и в главном — в научных дискуссиях — Ландау не деликатничал и давал резкую оценку работ даже весьма почтенных теоретиков. Так, до 1957 г. он был не очень высокого мнения о работах Джона Бардина и часто высказывал это на семинарах: «Мы знаем, что может Бардин!» Лишь после создания теории сверхпроводимости и получения Бардиным второй Нобелевской премии он признал высочайший класс этого теоретика. С другой стороны, в повседневной жизни Ландау был очень деликатным и вежливым человеком. Мог на улице незнакомому человеку подробно и долго объяснять, как пройти по нужному адресу. Возмущался, когда грубо отвечают на ошибочный телефонный звонок.