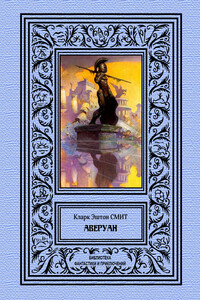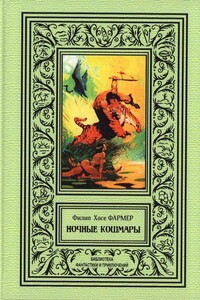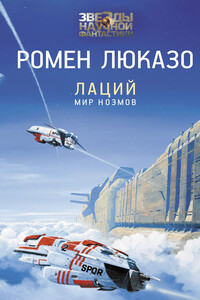Пророки желтого карлика | страница 58
Постой, но ведь кроме статьи есть и кое-что повещественнее: наш опыт "погружения", наши дети, наконец!
Все положения статьи подтверждены практикой! Как же можно было не понять, не почувствовать "дыхания истины"? С чего у нас там, в этой статье все начиналось? А, вспомнил, с понятия симметрии.
Да, там мы начали именно с этого понятия, ибо с понятием симметрии связаны все крупнейшие и сколько-нибудь значительные свершения в современной науке о природе - фундаментальной физике. К языку же мы подходили как к орудию коллективной, общественной мысли, социальному явлению, "изготовленному" обществом из вполне конкретного физического "материала" - колебаний воздуха, звука. Орудие совершенно тогда, когда целиком использует свойства материала, из которого оно изготовлено. Свойства звука непосредственно связаны с симметриями, у него имеющимися. Симметрия же в понимании физиков - это всегда связь между двумя состояниями физического объекта (видами звука в нашем случае), возможность превращения, преобразования одного состояния в другое. Такое превращение называется преобразованием симметрии. Если из одного можно сделать другое, то эти два состояния в чем-то явно похожи друг на друга, что проясняет связь такого понимания симметрии с теми представлениями о ней, которые дает нам школа.
Из всех преобразований симметрии, связанных со звуком, нас интересовали, естественно, лишь те, которые можно использовать для передачи информации: изменение громкости, длительности звучания, высоты тона, наконец, изменения ритма звуков, структуры обертонов (так называемых формант), вариации рифмы. Далее шли преобразования суффиксов, аффиксов и окончаний, перестановки порядка слов и так далее... Как очевидно уже из самого перечисления, речь шла, в основном, о симметриях, связанных с музыкальным строем звуковой речи.
Главная же идея состояла в том, чтобы каждому реальному переходу, превращению одного из окружающих нас предметов и явлений в другой сопоставить соответствующее превращение одного звука в другой, так что все симметрии окружающего мира, выражающие глубокую сущность природных и общественных явлений были бы отражены в соответствующих симметриях мира звуков, симметриях музыки.
Это, в общем-то, так же возможно, как и возможно с помощью карандаша и листа бумаги изобразить, буквально, что угодно. Разница лишь в используемых средствах. Однако, в отличие от простого рисования, изображение связей, симметрий реального мира в виде связей, преобразований различных звуковых, музыкальных форм есть отображение глубоких, сущностных сторон явлений, то, что до сих пор доступно было лишь высшей математике. И при всем этом новый язык был всего-навсего устным языком, хотя и в высокой степени музыкальным! Одним из примеров "математичности" языка оказалось практически полное тождество законов простейших стихотворных форм с аксиомами так называемой дифференциальной геометрии суперсимметричных многообразий, абстрактнейшей математической теории, используемой на самом переднем крае фундаментальной физики. Стишки, однако, любому из нас намного легче сочинять, чем пытаться традиционным способом вникнуть в суть этой теории. Это к вопросу об эффективности диала как "усилителя интеллекта"!