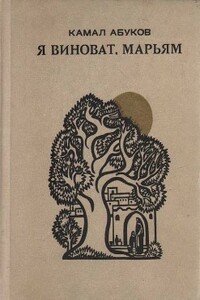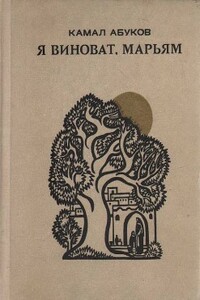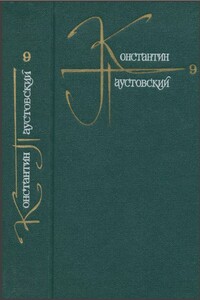Костер в белой ночи | страница 40
У меня казенная тозовка. Выписал майор Глохлов. Новая. Пристреливал в Буньском, чуть обвышает. Говорю об этом охотнику. Макар Владимировиче качает головой.
— Ружье есть. Пристрели. Возьми, какой понравится.
Он берет в руки сброшенный мной ремень, на котором купленный в Москве охотничий нож. Нож — загляденье — в кожаных лакированных ножнах, с тяжелой пластмассовой ручкой, с широким, чуть загнутым к жалу лезвием, с бороздкой для стока крови. Точенный московским точильщиком (взял с меня два рубля).
Макар Владимирович пробует жало пальцем, проводит по лезвию. Раз, другой. Кожа на пальце словно бы облуженная, кажется, улавливаю звук металла по металлу.
— Плохой, — говорит охотник. — Шибко плохой. В тайге ненужный. Отдай мальчишке играть. Что делать им будешь? — спрашивает. И сам отвечает: — Ничиво.
Дарья Федоровна ставит на столешницу деревянное блюдо. На нем тоненькие, в лепесток розы, кругляшки сырой сохатиной печенки, в центре блюда горочка темной крошеной горной соли. Печень промерзла так, что не успела оттаять под ножом хозяйки. А может быть, была настругана и загодя, только каждый кусочек от центра и гуще к краю словно бы припудрен выморозью. Из невесть откуда появившейся бутылки Макар Владимирович плескает тяжело падающий в кружки спирт. Мне и Дарье Федоровне всклень, себе чуть на донышке. Прежде чем пригубить, оба старика греют спирт на печурке. Хозяйка только так, за компанию, Макар Владимирович основательно. Кивает нам:
— Пейте.
— За здоров гость, — говорит Дарья Федоровна и пригубливает свой «бокал».
Я делаю два глубоких глотка обжигающей и тут же согревающей, кажется, всю грудь влаги. Закусываю заметно порыхлевшей в тепле печенкой, густо посыпав ее солью. Надламываю хрусткую парную колобу.
Макар Владимирович пьет теплый спирт маленькими, экономными глотками. Каждый глоток дается ему с трудом. Ест он тоже с большим усилием, какое-то перетертое в жидкую кашицу кушанье. Его поставила перед ним в алюминиевой миске жена.
Макар Владимирович болен. Болен давно. Уже четверть века прошло с тех пор, как впервые свила в нем гнездо то утихающая, то снова возникающая, валящая на землю боль. Четверть века борется с ней человек. Что это? Разве смогли бы ответить на этот вопрос тогда, когда впервые вошла она в охотника, даже самые уважаемые местные доктора?
Бессильна наука, бессильны клиники и операционные перед той болью.
И только он один на один ведет с ней неравную борьбу. Четверть века ведет один на один.