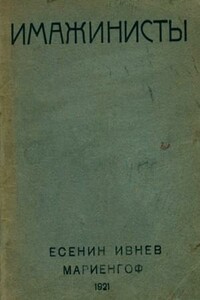Юность | страница 56
Был солнечный зимний день! (С тех пор я боялся и ненавидел такие солнечные, белые дни. К счастью, в Петербурге они редки.) Солнце горело на снегу; ослепляла глаза яркость лучей и белизна полей. Мы шли вдвоем. Я и Коля Ремизов. Хрустел снег под ногами. Мучительно хрустел. (Я вспомнил розовое варенье.) И потом кровь алую на белом снегу.
О, Боже! Боря! Боря! Не хватает сил писать все, как было. Скажу в нескольких словах. Вы понимаете — больно. И вот вспоминаю и вижу только снег белый и кровь алую и больше ничего. Я не смотрел в мертвые глаза. Было так все просто, точно я ничего ужасного не сделал! Нажал курок ружья. Будто нечаянно. И, может быть, сам верил, что нечаянно. В глаза не смотрел мертвые. Я сам испугался, когда убил, и не верил, что это я. Плакал горько и больно не только над Ремизовым Колей, погибшим от моей руки, но и о себе плакал, погибшем. Ведь я погиб с того момента, как убил. В гимназии переполох. Дома — тоже. Директор допрашивает, воспитанников, учителя. Я плачу. Бьюсь головой о стену. Месяц был дома, окруженный заботами наших. В уютной, маленькой квартире, куда мы недавно перешли. С этих пор я полюбил новую квартиру и уют наш. Потом — все пошло по-старому. Гимназия, уроки. Слышал, что Василий Александрович, отец Коли, горем убит.
Долго мучился. Боялся его. Наконец, не выдержал. Пошел. Он добрый, бедный Василий Александрович. Плакал, обнял меня. Он верил в мою нечаянность. И был я убийцей скрытым. И никто об этом не знал. Но мне не было легче от этого. Я сторонился от товарищей-гимназистов, боясь, что снова повторится этот кошмар зимний, на белом снегу. И было легче немного сторониться „любви этой“, так как к страху „позора“ прибавился страх убийства.
Боря! Вы помните нашу встречу в поезде? Помните наше знакомство? Я сейчас же почувствовал, что вы — такой. И сердце сжалось мучительно. Вы спросили: „Приедете? Честное слово?“ Я сказал: „Честное слово“, но решил в глубине души не приезжать. Я боялся вас. Вашего голоса, Вашего лица. Я мог бы полюбить Вас. Но ведь это было бы ужасно! Моя клятва, мой стыд перед „этим“. И я боролся. Я не ехал.
Я думал: лучше нарушить десять честных слов, чем ту клятву. Я убивал в себе вспыхнувшее чувство, убивал медленно, со скрытой злобой и когда мне показалось, что я равнодушен, я приехал.
Вы изумлялись переменой, происшедшей во мне. Ведь там, в поезде я был совсем другим. Мы часто с Вами ходили, разговаривали, и я старался быть спокойным и непонимающим Вас, тогда как я отлично понимал. Ваши взгляды, Ваши пожатья. Я хотел быть Вашим товарищем и только. Мне казалось, что если я поборю эту любовь к Вам, если я сумею выйти на этот раз победителем — мои терзанья кончаться и вылечусь окончательно. Я начал ухаживать за Ефросиньей Ниловной (помните ее), и мне казалось (потом я только понял, что это был самообман), что мне доставляют удовольствие ее поцелуи… Только показалось… На один миг, на одну секунду, а потом… я возвращался снова к своим мечтам, к своему горю. Я то роптал, плакал, то приходил в бешенство и, кусая пальцы и руку, проклинал весь мир.