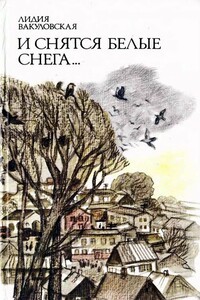Вступление в должность | страница 70
Но домой он добрался. И сперва освободил от упряжи собак, затащил в сени оленьи туши, безжалостно, даже с ненавистью ступая на правую ногу, отволок в сарай нарты и бросил собакам мерзлой рыбы, потом вошел в избушку, зажег лампу, набил дровами железную печку. Снова вышел за дверь, набрал кирпичей снега, напиленных раньше и сложенных штабелем в холодных сенях. Один кирпич он порубил большим ножом, набросал в чайник твердого снега и поставил чайник на печку — надо было развести порошок и накормить щенка.
Найда почувствовала, что с ним неладно, что он не такой, как всегда. Она забеспокоилась, заходила вокруг него, заглядывая ему в глаза, точно хотела спросить, что же случилось. Взяла в зубы стоявший у порога веник, принесла.
— Не нужен веник, Найда. Лучину, лучину давай, — сказал он. — Будем печь разжигать.
Найда отнесла на место веник, поспешила к сложенным за печкой лучинам, принесла сразу две.
— Еще лучину, Найда, еще неси.
Он разговаривал с нею как с человеком, не повышая голоса и не приказывая, а прося. Найда понимала его и, как могла, помогала.
Когда в печке разгорелось, он наконец стянул с себя кухлянку и оглядел ногу. Определив, что это перелом, он обвязал ступню крест-накрест веревкой, другой конец ее закрепил за треногу стола, прочно прибитого гвоздями к полу, лег на лавку и начал «править кость», изо всей силы натягивая больной ногой веревку. В глазах у него потемнело от боли, но он упрямо мучил ногу, пока хватило мочи терпеть. Когда же терпению настал конец, он прекратил эту пытку и какое-то время недвижно лежал, приходя в себя. Тогда он подумал, что, видно, в эту зиму не придется ему охотиться и по весне не с чем будет ехать в поселок к Кокулеву. И вообще, дрянь дело получилось. Одному в тайге с такой ногой — какое житье?
И впервые за многие годы вся его жизнь представилась ему пустой и никчемной. Все зряшно было в ней: самородки Одноглазого, его отшельничество, вражда с Архангелом… Закрыть глаза — и чтоб все разом кончилось, разом и одним махом. И ни одна душа не пожалела бы о его кончине — некому жалеть.
Однако закрыть глаза и лежать на лавке он не мог — боль от этого не проходила, напротив, усиливалась: выкручивало всю ногу, стреляло в колене и в паху. И щенок стал поскуливать, и Найда присела у дверей и, не смея подать голоса, виновато оглядывалась на него — просилась по нужде. И надо было располосовать простыню, перевязать туго-натуго ступню…
«Эх, жизнь моя паскудная!..» — поморщился Леон, не столько от этой тоскливой мысли, сколько от пронзительной рези в голове, когда он пошевелил ногой, пытаясь опустить ее с лавки на пол.