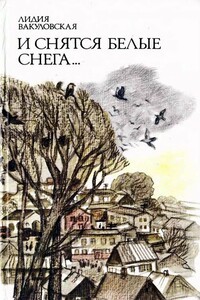Вступление в должность | страница 62
Леон собрался было ехать на своей собачьей упряжке, уже и лаек в нарты запряг, да, на счастье, старый Матвей Касымов подогнал к его избушке кочевавшее в тайге оленье стадо. Леон взял у Матвея двух крепких чалымов[3], способных бежать куда быстрее лаек, через два часа уже был в поселке и прямо в магазине, велев завмагу Кокулеву принести теплой воды и дать молочного порошка, накормил щенка.
Щенок исскулился за ночь, Найда тоже подняла средь ночи скулеж, исходя жалостью к голодному сыну. Прыгала, дуреха, на хозяина, лизала руки и пласталась к его ногам, прося, чтоб помог. А чем он мог помочь, если в доме не было ни горсти сухого молока? Найда скулила, в глазах ее дрожали слезы, а охотник сердито выговаривал ей: «Сама виновата! Кто в твои годы щенится? Привести привела, а в сосках пусто? Теперь скавучишь, чертовка старая!..» Найда была лягавая, из породы сеттеров. Когда-то завмаг Кокулев привез из Курска, куда ездил в отпуск, двух породистых щенков, дал одного Леону. Из щенка выросла умная, красивая собака, с лохматой красной шерстью. С ней он десять лет охотился в тайге, и не только на птицу ходила Найда. Она могла почуять за двадцать метров и беличье дупло, и лежку зайца и бесшумно выводила на них хозяина. И теперь, когда она стала слаба на ноги и потеряла острый нюх, он не мог допустить, чтоб погиб от голода ее отпрыск. Это был первый детеныш Найды, поскольку раньше она не подпускала к себе собак другой, не ее породы, а на старости лет все же согрешила. Другой раз он накормил щенка уже в нетопленной избе Матвея, перед тем как самому приложиться к спирту. Ну а после и еще раз — у Архангела. Теперь вот спит, несмышленыш, не шелохнется под кухлянкой, вроде и нет его.
Ночная дорога располагала Леона к разным мыслям, и они менялись у него по мере того, как менялась вокруг него природа и местность, по которой он ехал. Когда не стало тайги, стеклянного звона, шалой луны и Пропала вся причудливая игра света, снега, деревьев, теней и звуков, пропал тогда и образ Алены, всплывший в какую-то минуту перед ним столь ясно, что он едва не остановил упряжку и не кинулся к дереву, под которым она стояла и манила его к себе взмахом руки, а потом вдруг пропала, и на том месте, где только что была Алена, осталась лишь молоденькая лиственница, так причудливо усыпанная снегом, что издали напоминала девичью фигуру со вскинутой рукой. Такое случалось нередко, подобные видения нет-нет да и подстерегали его то в тайге, то в сопках, загроможденных каменными глыбами, то у какого-либо безымянного ручья с подбегавшими к нему, точно на водопой, подлетками-березками. И бывало, что не только в сумеречном свете, когда властвует игра воображения, но и в свете солнечном, дневном, вдруг заметит Леон издали склоненную над ручьем Алену, ее легкую изогнутую фигуру и свешенные к воде длинные золотистые волосы, или увидит вдруг ее сидящей у подножия скалы, в своей любимой позе — подтянув к груди колени и прижавшись подбородком к скрещенным на коленях рукам, — и замрет Леон, оцепенеет, не сдвинется с места, и всего его окатит таким жаром, что кровь застучит в висках. А потом придет в себя, опомнится, подойдет поближе — и что же? А ничего — один мираж, одно наваждение: просто тронутая осенней желтизной березка свесила к ручью позлащенную закатом девичью косу, и невидимый ветерок расчесывает ее, колышет над водой; просто мертвый камень, подернутый мхом, принял очертания сидящей Алены. Как жестоко обманчивы такие призраки!..