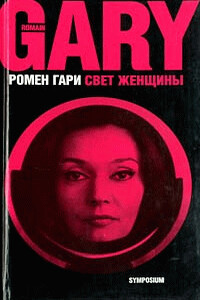Пляска Чингиз-Хаима | страница 36
Хюбш стоит, наклонясь вперед, и лицо его подергивается от нервных спазмов.
— Без штанов? — кратко осведомился комиссар.
— Все! Все без штанов! И улыбаются!
— Что? — бросил граф. — Что вы такое несете?
— Это немыслимо! — воскликнул барон. — Я сплю! Хотя нет, я не способен видеть подобные сны. Это не я сплю. Это какое-то низменное, дегенеративное животное, зараженное отвратительными, чудовищными болезнями! У нас у всех тут приступ белой горячки!
Иоганн молитвенно сложил руки перед грудью. У него сладостное, разнеженное лицо.
— И все без штанов! Счастливые пташечки!
— Пташечки? — переспросил комиссар. — Какие пташечки? Откуда взялись пташечки?
— Крохотные птички, прикорнувшие в своем гнездышке, и такие довольные-довольные!
— Этот грязный еврей продолжает подрывать наши моральные устои! — рявкнул Шатц.
— Какой еврей? — удивился барон.
И вот тут Шатц сорвался. Да, неосмотрительно, но, может, он все-таки удержится и не начнет выкладывать все подряд? А то ведь кончится тем, что они упрячут его в клинику и станут пичкать, чтобы прикончить меня, новыми наркотиками. Я попытался его удержать. Но он уже был так раздражен, что начисто позабыл все наши хитрые правила, наше искусство проскальзывать в тени по просторам истории, утратил знаменитый инстинкт самосохранения, который мы до невероятности развили в себе.
— Как это — какой? — заорал он. — Да все тот же! От этого просто воняет вырожденческим искусством, — диббук, Голем, фантастика пражской школы, они возвращаются! Господа, я вас предупреждаю: мы все оказались в лапах третьеразрядного паяца по имени Чингиз-Хаим, который выступал со своим непристойным номером в еврейских кабаре. А сейчас он отплясывает свою хору на наших головах.
Ну, этого я уже не мог вытерпеть. Пританцовывая, я исполнил перед Шатцхеном ускоренный выход. Он замер с открытым ртом, глядя куда-то в пространство. Он-то прекрасно знает, что это не сон, это кошмар, иначе говоря, реальность. Спиртное придает расследуемому делу дурную, искаженную, ирреальную окраску, но тем не менее о нем кричат газеты всего мира на первых страницах, так что напрасно щипать себя, чтобы проснуться. Это реальность. И она становится все очевидней, бросается в глаза, потому что сорок один труп — вот они, их можно пересчитать, можно представить. Они фигуративны. Вот если бы их было пятьдесят миллионов, то очень скоро о них перестали бы говорить. Потому что это была бы уже чистая абстракция.
А комиссар как раз и производит подсчет: