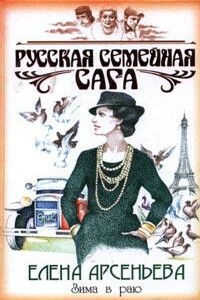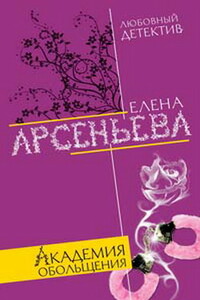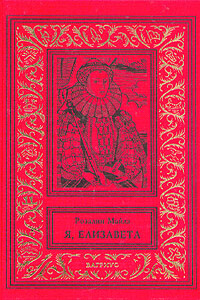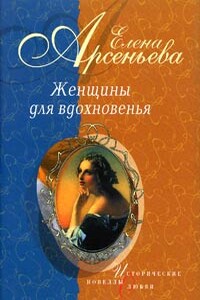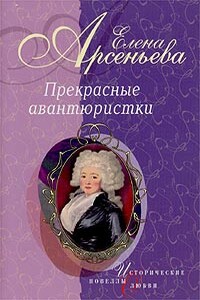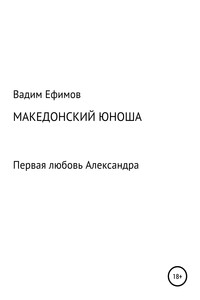Еще одна из дома Романовых | страница 39
Вошли… и в тишине раздался поцалуй,
Краснея поднялся, как тигр голодный, трам-пам-пам.
Хватают за него нескромною рукою,
Прижав уста к устам, и слышно: «Будь со мною,
Я твой, о милый друг, прижмись ко мне сильней,
Я таю, я горю…» И пламенных речей
Не перечтешь. Но вот, подняв подол рубашки,
Один из них открыл атласный трам-пам-пам и ляжки,
И восхищенный трам-пам-пам, как страстный сибарит,
Над пухлой трам-пам-пам надулся и дрожит.
Уж сближились они… еще лишь миг единый…
Но занавес пора задернуть над картиной,
Пора, чтоб похвалу неумолимый рок
Не обратил бы мне в язвительный упрек.
Константин прерывисто вздохнул, а Павел, почуяв в сем вздохе мечтательную тоску кузена по несбыточному счастью, продолжал с тем же выражением оскомины:
– Помнишь, я нашел у Сергея эти стишки в тетрадке и принес тебе показать, да еще спрашивал, о чем это? Вот глупец был наивный, ничего не знал, ничего не понимал!
– Век бы тебе, Поль, этого не знать и не понимать, – со слезами в голосе проговорил Константин.
Но Павел все же понял довольно – а прежде всего понял невозможность человеку себя переделать. Оттого он был доселе снисходителен к грехам любимого брата Сергея – пока не осознал, что эти грехи превращают в ад жизнь любимой им женщины.
Узнав, что Сергей проводит ночи то с новым адъютантом, то с прежним, а Элла остается одна, он впервые упрекнул Сергея. Однако тот лишь поднял брови:
– Я дал волю своей жене, и она это прекрасно знает. Она может выбрать себе любого достойного мужчину – поверь, я смогу простить ее и понять. Это не изменит нашей с ней нежной любви друг к другу! Одно только я не смог бы простить: если бы она нашла утешение в объятиях моего… – Он вприщур глянул в глаза Павла и закончил, видимо, иначе, чем собирался: – В объятиях кого-то из наших родственников. И она это понимает – понимает, что с ней я немедля разведусь, а с тем человеком отношения прерву и вообще сделаю все, чтобы самым гнусным образом отравить его существование. Надеюсь, ты не наивен, а столь же умен, как моя дражайшая супруга, а потому не считаешь меня образцом благородства и умения подставлять другую щеку?
Павел не был наивен (хоть, может, умом особенным и не блистал) и хорошо знал брата. Любил его – а все же понимал, сколь низменна и в то же время возвышенна его натура.
Ему приходилось еще в юности читать о каком-то средневековом яде, который наливали в вино тем, кого желали уничтожить, не оставив подозрений. Яд – кажется, он назывался lutulentis mors, мутная смерть, да-да, именно lutulentis mors! – был очень тяжел, сразу ни в вине, ни в воде не растворялся, а сначала ложился на дно густым осадком, так, что напиток оставался чистым и даже прозрачным. Отравитель мог без малейшей опаски и без вреда для здоровья сделать глоток из кубка, а потом – с самой дружеской улыбкой! – передать его своей жертве… только надо было не забыть качнуть кубок, чтобы взболтать осадок, – вот и все, обреченный вскоре умирал мучительной смертью. Вот так же на дне светлой и прозрачной, гордой и страстной, возвышенной и милосердной души Сергея тяжко лежал некий опасный осадок, и горе тому, из-за кого эта ядовитая, губительная тьма начинала колыхаться!