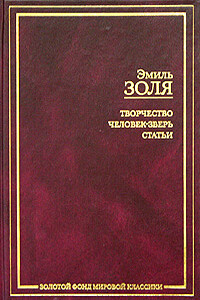Том 24. Из сборников: «Что мне ненавистно», «Экспериментальный роман» | страница 47
Последний портрет представляет нам Вовенарга. Лицо гордое, голова несколько наклонена, словно пригнулась под гнетом вечной немилости божией. Чувствуется, что он, как и Ларошфуко, страдал от неудовлетворенного честолюбия, но в его горе есть что-то более живое, молодое, и потому оно вызывает к себе больше сочувствия. Он не стал мстить людям, терзая их души; наоборот, фатализму Паскаля он противопоставил право человека на свободу, и в словах: «Любить благородные страсти», превращенных им в общий заголовок для нескольких его трудов, выразил смысл своих писаний и рассказал о своей жизни. Вовенарг в целом — фигура элегическая, по сравнению с пятью другими моралистами, изученными г-ном Прево-Парадолем. Есть что-то милое и подкупающее в облике этого страдальца, который «раскрывается нам как человек, снедаемый честолюбием, тяжко переживающий свои обиды и вместе с тем трогательно, хотя и безуспешно, силящийся презреть все те блага, к обладанию которыми он стремился». Сам он где-то написал: «Если бы жизнь не имела конца, кто отчаивался бы из-за отсутствия достатка? Смерть — худшая из неудач». На его долю эта худшая из неудач выпала в молодом возрасте, и он так и не успел сколотить себе достаток, мысль о котором преследовала его всю жизнь. Вовенарг написал мало, но все, созданное им, отмечено печатью его личности; он противоборствовал не истине, а скорее — судьбе, его читаешь без душевной тревоги, испытывая сочувствие и нежную симпатию к этому человеку, прожившему благородную и печальную жизнь.
Таковы они, все шестеро; различные по своему облику, они были одержимы общей для них заботой; ведя одну и ту же борьбу, они получили в ней неодинаковой тяжести удары. Они стремились прочесть загадочную книгу жизни, они хотели узнать заветное слово о предназначении человека в мире. Их поиски были тщетными: они ничего не обрели, разве что восхищение потомков. Напрасно простиралась все глубже и дальше их мысль: она так и не смогла достичь истины. Они — гиганты мысли, и мы преклоняемся перед ними; но они — не пророки, и за их речами почти всегда лишь мнимость и тщета. Я повторяю: кто будет тем моралистом, который произнесет суд над своими предшественниками и найдет наконец разгадку божественной тайны?
Я не знаю, удалось ли мне дать вам некоторое понятие о книге г-на Прево-Парадоля. Соединив вместе шестерых французских моралистов, автор имел, конечно, намерение показать нам плоды изучения и познания человеческой природы, которыми обогатилась Франция за два столетия. Мне казалось, что я поступлю правильнее всего, если представлю вам одного за другим великих людей, о которых он нам поведал. Кстати, я не думаю, чтобы г-н Прево-Парадоль претендовал на то, что он обогатил живший в нашем сознании облик каждого из них новыми штрихами, опущенными историей; он удовлетворился тем, что скопировал ту же натуру, но при этом он тонко и изящно работал карандашом, по-новому распределил свет и тени, и в результате знакомые лица в его изображении как-то помолодели и посвежели, что заново вызывает к ним интерес и привлекает внимание. Забываешься, глядя на них; и кажется, что хотя это старые друзья, до сих пор ты их по-настоящему не знал; потом, узнав их много лучше, остаешься под обаянием этой встречи, в которой они открылись тебе с новой и неожиданной стороны.