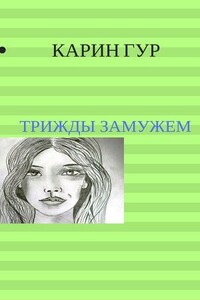Наживка для фотографа | страница 12
— Ну, не скажи! — возмутилась Лиза. — Таланты везде нужны. Я, например, в ветеринарке ассистирую. Кастрация котов и так далее. Так вот, у нас все знают, у кого руки из нужного места растут! Один врач так сделает операцию, что у животного все швы как по волшебству заживают, а другой зашьет, как плохой портной, потом хвостатого пациента долечивать приходится. Тошка, иди ко мне! — позвала она любимца. Тот не заставил себя ждать. — Вот смотрите, какие у нас бархатные ушки! Ну, стой же смирно, дурачок! Антон, видишь шов? Не видишь? То-то же! Я зашивала. А ведь тогда Тошеньку так бультерьер порвал, от уха одни лохмотья остались. А еще, помню, делала я укол ротвейлеру…
— Кастрировала, наверное? И он тебя не съел? — подначил Антон.
— Попробовал бы! У меня и лев будет как шелковый лечиться.
— Ты, Лизок, и с мужчинами, наверное, так же? — рассмеялся приятель. — Типа «Ко мне, сидеть, голос!».
— Нет, я смогла бы стать настоящей Душечкой, ежели бы только захотела, — сказала Лиза и скосила глаза на Антона. Но тот не обратил внимания на ее нехитрый маневр. — Я смогла бы говорить: «Да, дорогой, нет, дорогой, как хочешь, милый…» Но, честно говоря, вряд ли такое когда-нибудь случится, — уточнила Лиза. — Если только найдется кто-нибудь сильнее меня. Полностью раствориться в любимом, уничтожить себя как личность… По-моему, ни один мужик таких жертв не заслуживает, будь он хоть принцем крови, — решительно заявила девушка. — Вот Тошка принимает меня такой, какая есть, и не требует, чтобы я лаяла или бегала на четвереньках…
— Надо же, хитрый кобелина, потакает девичьим слабостям и выжидает момент, как истинный мачо! — развеселился Антон.
— Ладно, народ, вы тут дальше беседуйте, вспоминайте детство. А нам с Тошкой гулять пора. А еще надо заглянуть на прививки в клинику. Скоро не ждите!
И Лиза, демонстративно схватив поводок и подозвав запрыгавшего, как мячик, Тошку, со стуком захлопнула за собой дверь.
Леля мечтательно смотрела в окно, за которым, презрев арбатский смог, буйно цвела старая липа.
«Липа цветет за окном городским, душу соблазном мутит колдовским», — вспомнила она чьи-то стихи и вздохнула.
Медовый аромат вплывал в квартиру, мешался с запахом кофе, который девушка сварила по-варшавски, с молоком. Запах клубники, ее роскошное благоухание дополняли дивную душистую палитру. Леля вспомнила давнее лето, подготовку к экзаменам, их детскую любовь с Антоном. Боже, как давно это было! Было — да сплыло. Ну почему у нее все романы случаются летом? Может, в зимние дни солнца мало и чувство не успевает набрать силу, как домашние цветы? Зато летом… Она вдруг ясно представила знойную Варшаву, Кшиштофа в светлом льняном костюме, их прогулки по Старе Мясту в перерывах между репетициями. Ей вдруг показалось — нет, она явственно услышала любимый вальс Шопена, который исполняла, наверное, сотни раз. Услышала со всеми нюансами, паузами и оттенками. Музыка тронула какие-то тайные струны ее души, заставив против воли вспомнить даже то, о чем думать было слишком больно. Поспешные объятия Кшиштофа в отеле, когда они оба вздрагивали при малейшем шорохе за дверью, его мокрые волосы после душа, капельки пота, выступившие у него на спине. Предательские царапины, которые почему-то оставили на его плечах Лелины ногти, профессионально коротко подстриженные. Потом вдруг, без всякого перехода, она вспомнила его потерянный вид на вокзале, их официальный поцелуй в щеку при прощании. И как у нее выпал из рук билет, а жаркий ветерок понес, закрутил его, едва не бросив под колеса состава. Целый год прошел, после этого были десятки выступлений в разных городах и странах, куча поклонников, букетов и записок. А она все вспоминала это прощание на вокзале. Вернее, не могла забыть. «Наверное, во всех поляках есть нечто такое, магнетическое и страстное. Взрывная смесь буйной славянской душевности, польской спеси и европейского лоска, — порой думала девушка. — Вот ведь, влюбилась же когда-то Жорж Санд, успешная французская писательница, у которой отбоя не было от воздыхателей, в гениального, но капризного и больного Шопена… И возила его за собой, умирающего, на испанский остров, оставив любимый Париж, и терпеливо лечила, и восхищалась им, и прощала все капризы, и мирилась с недовольством собственных детей. А я, а Кшиштоф…»