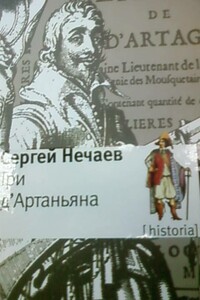De Profundis. Исповедь | страница 48
И все же мне казалось, что было бы очень неплохо – причем не только для меня, но также и для тебя, – если бы ты все-таки попытался опровергнуть представленную твоим отцом суду версию нашей дружбы, столь же абсурдную, сколь и гнусную; столь же нелепую по отношению к тебе, сколь и унизительную по отношению ко мне.
Эта версия уже успела стать достоянием истории, и, по всей видимости, навсегда: на нее ссылаются, ей верят, она стала общепризнанным фактом и излюбленной темой проповедей священников и назиданий ханжей-моралистов, в то время как я, привыкший беседовать со всеми веками – и давно минувшими, и грядущими, – был вынужден выслушивать свой приговор от века нынешнего, века лицемеров и шутов.
Выше в этом письме я уже говорил – причем, признаюсь, не без горечи, – что не удивлюсь, если по иронии судьбы твой отец станет героем нравоучительных брошюр для воскресных школ, тебя поставят в один ряд с отроком Самуилом, а мне отведут место между Жилем де Ретцем и маркизом де Садом. Что ж, если даже так и случится, то, может быть, это и к лучшему. Я не собираюсь сокрушаться по этому поводу.
Один из многих уроков, которые преподает нам тюрьма, заключается в той простой истине, что порядок вещей таков, каков он есть, и все, чему суждено свершиться, свершается. Кроме того, у меня нет ни малейших сомнений, что в компании прокаженного злодея времен средневековья[70] или в компании автора «Жюстины»[71] я буду чувствовать себя гораздо уютнее, чем в компании Сэндфорда и Мертона.[72]
Но в то время, когда я писал тебе из Холлоуэя, я был убежден, что для нас обоих будет лучше, разумнее и правильнее все-таки попытаться опровергнуть ту ложь о наших с тобой отношениях, которую твой отец сумел навязать через своего адвоката суду в назидание нашему филистерскому обществу. Вот почему я и попросил тебя написать в какую-нибудь газету или журнал и рассказать, хотя бы в самых общих чертах, как все происходило на самом деле. От этого было бы, по крайней мере, побольше толку, чем от тех статеек, которые ты печатал во французских газетах о семейной жизни своих родителей.
Ну скажи мне, какое французам дело до того, жили ли твои родители в согласии или нет? Невозможно представить себе более неинтересную для них тему. Их интересовало другое – как получилось, что знаменитый писатель, оказавший своим творчеством такое заметное влияние на французскую мысль, развивавший то направление в искусстве, олицетворением которого он сам был, мог своей жизнью навлечь на себя подобную травлю и подобный трагический финал?