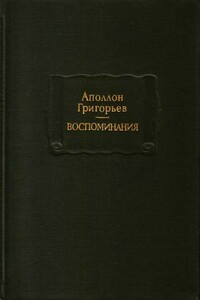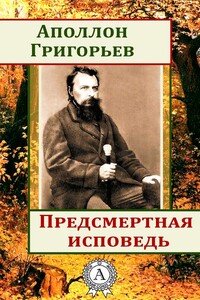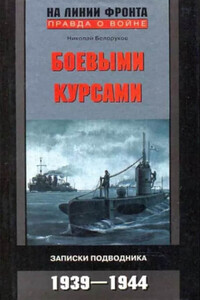Мои литературные и нравственные скитальчества | страница 83
Простите же меня, папинька, и лучше пожалейте обо мне, ибо только Вашего сожаления не буду я стыдиться. Верьте, что тяжел, иногда не по плечам тяжел крест моей жизни.
Целую руки Ваши и руки маменьки – благословите меня!
1846 года.
Июля 23.
Письмо к M. П. Погодину от 26 августа -7 октября 1859 г.[334]
Авг<уста> 26 < 1859 г.>. Полюстрово.[335]
Не имея покамест никаких обязательных статей под руками, я намерен изложить вам кратко, но с возможной полностью, все, что случилось со мной внутренне и внешне с тех пор, как я не писал к вам из-за границы. Это будет моя исповедь – без малейшей утайки.
Последнее письмо из-за границы я написал вам, кажется, по возвращении из Рима.[336] Кушелев дал мне на Рим и на проч. 1 100 пиастров, т. е. на наши деньги 1 500 р. Из них я половину отослал в Москву, обеспечив таким образом, на несколько месяцев, свою семью, да 400 пошло на уплату долгов; остальные промотаны были в весьма короткое время безобразнейшим, но благороднейшим образом, на гравюры, фотографии, книги, театры и проч. Жизнь я все еще вел самую целомудренную и трезвенную, хотя целомудрие мне было физически страшно вредно – при моем темпераменте жеребца: кончилось тем, что я равнодушно не мог уже видеть даже моей прислужницы квартирной, с<ин>ьоры Линды, хоть она была и грязна, и нехороша. Теоретическое православие простиралось во мне до соблюдения всяких постов и проч. Внутри меня, собственно, жило уже другое – и какими софизмами это другое согласовалось в голове с обрядовой религиозностью – понять весьма трудно простому смыслу, но очень легко – смыслу, искушенному всякими доктринами. В разговорах с замечательно восприимчивым субъектом, флорентийским попом,[337] и с одной благородной, серьезной женщиной[338] – диалектика увлекла меня в дерзкую последовательность мысли, в сомнение, к которому из 747 7 г расколов православия (у comptant[339] и раскол официальный) принадлежу я убеждением: оказывалось ясно как. день, что под православием разумею я сам для себя просто известное, стихийно-историческое начало, которому суждено еще жить и дать новые формы жизни, искусства, в противуположность другому, уже отжившему и давшему свой мир, свой цвет началу – католицизму. Что это начало, на почве славянства, и преимущественно великорусского славянства, с широтою его нравственного захвата – должно обновить мир, – вот что стало для меня уже не смутным, а простым верованием – перед которым верования официальной церкви иже о Христе жандармствующих стали мне положительно скверны (тем более, что у меня вертится перед глазами такой милый экземпляр их, как Бецкий,