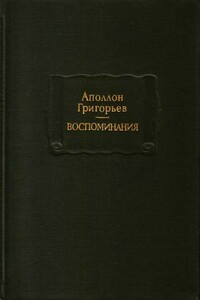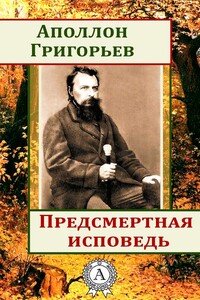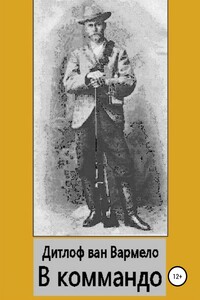Мои литературные и нравственные скитальчества | страница 77
Случайно или не случайно – деятельность его совпала с реставрационными стремлениями, проявившимися после первой революции во всей Европе. Но – опять-таки – совсем иное дело эти реставрационные стремления в разных странах Европы. В Германии – как я уже сказал – под этими реставрационными стремлениями билась в сущности революционная жила; во Франции они были необходимой на время реакцией, выродившейся в новую революцию тридцатого года, у нас, наконец, они были и остались простым стремлением к очищению нашей народной самости, бытовой и исторической особенности, загнанных на время терроризмом реформы или затертых и заслоненных тоже на время лаком западной цивилизации.
О нас и наших реставрационных стремлениях говорить еще здесь не место. О Германии я говорил уже с достаточною подробностию. Чтобы уяснить мою мысль о непосредственно, так сказать, нерефлективно-реставрационном характере литературной деятельности Вальтер Скотта, я должен сказать несколько слов о французских реставрационных стремлениях.
Но никак не о тех, которые выказались в блестящей деятельности одного из величайших писателей Франции, Шатобриана – этого глубоко потрясенного событиями и страшно развороченного в своем внутреннем мире Рене, который с полнейшею искренностью и с увлечением самым пламенным ухватился за старый католический и феодальный мир, как за якорь спасения. Он представляется мне всегда в виде какого-то св. Доминика, страстно, со всем пылом потрясенной души и разбитого сердца, со всей судорожностью страсти обнимающего подножие креста на одной из чудных картин фра Беато в монастыре Сан-Марко.[318] Не на тех также стремлениях возьму я французскую реставрацию, которые начались у Гюго его одами и выразились в «Notre Dame», в «Le roi s'amuse»[319] и блистательно завершились «Мизераблями»;[320] не на напыщенных медитациях или гармониях Ламартина…[321] Эпоху, как я уже заметил, нужно брать всегда в тех явлениях, где она нараспашку.
В это время читающая публика «бредила» – буквально бредила ныне совершенно забытым, и поделом забытым, совершенно дюжинным романистом виконтом д'Арленкуром. Его таинственный пустынник и эффектно– мрачный отступник Агобар, его отмеченная проклятием чужестранка сменили в воображении читателей и читательниц добродетельных Малек-Аделей и чувствительных Матильд. Но сменили они вовсе не так, как хотел этого автор. Автор сам по себе – ограниченнейший из реставраторов и реакционеров: во всех своих успех имевших романах («Пустынник», «Чужестранка», «Отступник») он проводит одно основное чувство: любовь к сверженным и изгнанным династиям – в особенности в «Отступнике», в «Ипсабоэ» он в рот, что называется, кладет, что Меровинги ли первого романа, прованские ли Бозоны второго – для него то же, что Бурбоны, да публике-то читавшей, в особенности же не французской, а, например, хоть бы нашей, никакого не было дела до подвигов его воительницы девы Эзильды, полной любви к сверженной династии, ни до Ипсабоэ, восстановляющей всеусердно, хотя и тщетно, Бозонов в Провансе. Для французской публики все это были уже старые тряпки, для нашей вещи совершенно чуждые. Не тем влек к себе дюжинный романист, а своей французской страстностью, которая помогала ему разменивать на мелочь могучие и однообразно мрачные образы сплинического англичанина, к которому восторженное послание написал Ламартин