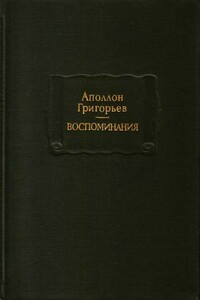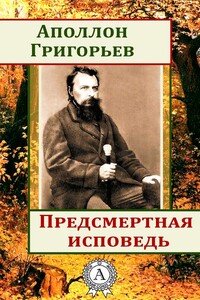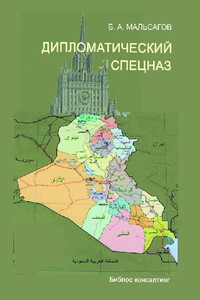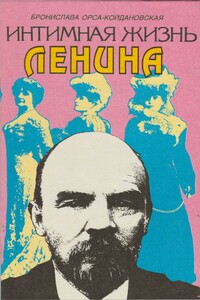Мои литературные и нравственные скитальчества | страница 43
и что она отвергает только потому, что не наловила достаточно хвостиков и по ним не добралась до общего хвоста…
Сила в том, что трансцендентализм был силой, был веянием, уносившим за собою все, что только способно было мыслить во дни оны. Все то, что только способно было чувствовать, уносило другое веяние, которое за недостатком другого слова надобно назвать романтизмом. В сущности то и другое – трансцендентализм и романтизм – были две стороны одного и того же. Об этом, впрочем, рассуждал и писал я так много,[159] что если бы принялся рассуждать еще раз, то неминуемо должен был бы впасть в повторение.
Потому для того, чтобы уяснить моим читателям сущность романтического веяния, я избираю путь повествования вместо пути рассуждения.
Перенесемтесь в конец двадцатых и в начало тридцатых годов. На сцене перед нами, во-первых, великая и вполне уже почти очерченная физиономия первого цельного выразителя нашей сущности, Пушкина. Он дозрел уже до «Полтавы» – в его портфеле уже лежит, как он (по преданиям) говорил, «сто тысяч и бессмертие», т. е. «комедия о Борисе Годунове и Гришке Отрепьеве», но еще чисто романтическим ореолом озарен его лик, еще Байрона видит в нем молодежь, еще он не улыбался добродушною и вместе саркастическою улыбкою Ивана Петровича Белкина, «не повествовал с карамзинской торжественностью» и вместе с необычайно метким тактом действительности об исторических судьбах обитателей села Горохина,[160] не вглядывался глубоко симпатично в жизнь какого-нибудь станционного смотрителя. Он идол молодого поколения, но в сущности молодое поколение видит его не таким, каков он на самом деле, ждет от него не того, что он сам дать намерен. Если б оно обладало даром предведения, это тогдашнее молодое поколение, оно с ужасом отступило бы от своего идола. Оно прощает ему комический рассказ о графе Нулине, даже готово в этом первом простом изображении нашей действительности видеть романтическое, но оно не простит ему повестей Белкина…
У тогдашнего молодого поколения есть предводитель, есть живой орган, на лету подхватывающий жадно все, что носится в воздухе, даровитый до гениальности самоучка, легко усвояющий, ясно и страстно передающий все веяния жизни, увлекающийся сам и увлекающий за собою других… «купчишка Полевой», как с пеной у рту зовут его, с одной стороны, бессильные старцы, а с другой – литературные аристократы.
Потому есть и те и другие. Еще здравствуют и даже издают свои журналы и поколение, воспитавшееся на выспренних одах – старцы в котурнах, и поколение, пропитанное насквозь «Бедной Лизой» Карамзина, старцы «в бланжевых чулочках»,