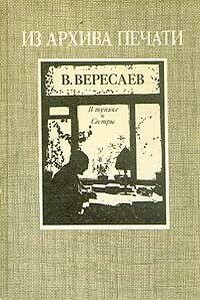Что нужно для того, чтобы быть писателем? | страница 15
Мы точно отпечатали у себя в мозгу все существующие слова и обороты, не позволяем себе сочинять новых и смеемся над теми, кто себе это позволяет; мы хорошо знаем грамматику и не позволяем ни себе, ни другим нарушать ее правил. Но как же обогащается и расширяется язык, как не созданием новых слов и оборотов? И что такое грамматика, как не простое констатирование форм языка данного момента? Человеческая речь – живой, текучий, вечно меняющийся поток, а грамматика, предписывая свои правила, пытается загородить поток и превратить его в стоячий пруд. И непрерывно разрабатывать, перерабатывать язык продолжают только люди, не ведающие о грамматике, которых мы готовы назвать «безграмотными». Например, давно уже слово «пальто» стало чисто русским, давно говорят «у меня нет пальта», «на вешалке много польт». А мы твердо помним, что «пальто» – слово иностранное и не склоняется, и поправляем: «у меня нет пальто», «на вешалке много пальто». Давно уже слово «чайпить» стало одним глаголом, а если кто скажет: «они почайпили», мы поправляем: «они напились чаю». У нас нет существительного, соответствующего немецкому «Ausland», французскому «l'etranger», а давно уже существующее у нас слово «заграница», точно выражающее это понятие, коробит нас своею «безграмотностью». Да, безграмотность… Еще Пушкин говорил:
Это подчинение языка зафиксированным формам, это затягивание его в узкий корсет грамматики грозит литературному языку очень серьезными опасностями. Французский критик Реми де Гурмон говорит: «учась в школьных тюрьмах тому, чему когда-то гораздо лучше учила детей сама жизнь, они, из страха перед грамматикой, теряют ту свободу ума, которая так важна в эволюции слова. Они говорят, как книга, как плохие книги, и, когда им нужно сказать что-нибудь серьезное, они прибегают к фразеологии этой низменной моральной и утилитарной литературы, которою мы пачкаем их нежные и впечатлительные мозги. Народ в этом отношении не отличается от ребенка; но, более смелый и предприимчивый, он создает свой, простонародный язык, – арго, – и в нем он дает волю своей потребности в новых словах, в живописных оборотах, в синтаксических новшествах. Обязательное обучение в низших классах Парижа сделало из французского языка мертвый язык, – парадный язык, которым народ никогда не говорит, и который он скоро перестанет понимать: он любит свой арго, которому научился один, на свободе, и ненавидит французский, который все больше становится для него языком его господ и угнетателей».