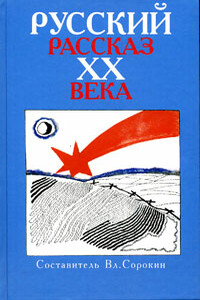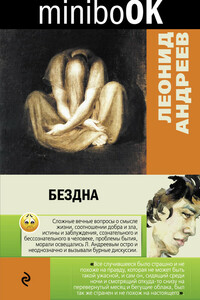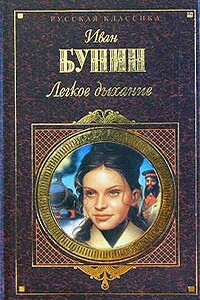Оригинальный человек и другие рассказы | страница 14
– Ну чего глаза-то вытаращила? Пей, пока дают. Эх! – Голова Алексея Георгиевича, несколько раз мотнувшись в воздухе, поникла ему на грудь. Вся его маленькая фигурка, в аккуратных сапожках, в коротеньком, засаленном и потертом пиджачке, как бы сохранившем на себе следы всех приемных и редакций, где по целым часам терся и терпеливо ожидал его обладатель, – все было так детски жалко и беспомощно вопреки энергичному тону слов, что Паша осмелилась проговорить:
– Алексей Егорыч! Пойдемте, я вас в постельку уложу…
– Думаешь, пьян, заснул? Дура! Я еще и тебя перепью, – бодро взмотнул головой Орлов, но удержать на высоте ее не мог. – Я тебе, дуре, еще о памятнике расскажу. Каждый вечер сижу я против него и зимою и летом. Один он у меня, во всем свете один, больше и поговорить не с кем. Спросишь: «Холодно тебе, Пушкин?» – «Холодно, ответит, Орлов». Заиндевел весь, черный… «Убили тебя люди, Пушкин?» – «Убили, Орлов». – «А памятник воздвигли?» – «Воздвигли!» – «И мне тоже будет!» Ну, покойник смеется, а другой раз пожалеет. А мне разве его не жалко? Душу его жалко. Заковали ее в железо, шевельнуться нельзя. И моя душа закована. Давит железо… Ох, давит!..
Алексей Георгиевич, понижавший голос по мере накопления чувства, остановился и, подняв на Пашу помутившиеся глаза, внезапно вскочил и, разрывая на груди рубашку, закричал голосом настолько громким и диким, что за перегородкой пошевелились.
– Водки давай, водки! Скорее… задыхаюсь!..
Трясущимися руками, шепча: «Господи Иисусе Христе!» – Паша налила рюмку и поднесла ее Алексею Георгиевичу, который, стукнув зубами о стекло, проглотил содержимое, а содержащее бросил в угол, где оно, жалобно звякнув, разлетелось на куски.
– Паша, Пашечка, пожалей меня, ведь я один. Всю жизнь не понят, умру… Будьте вы прокляты! Паша, одной тебе говорил. Женщин не знал. Паша, видишь, я плачу… Они смеялись! Голубушка, как тяжело жить на свете…
С глухим, не выходящим из горла рыданием Алексей Георгиевич упал головой на колено Паши, которая, одной рукой поддерживая тело напившегося гения, другой гладила его по плешивой седой голове и говорила, не обращая внимания на крупные слезы, катившиеся вокруг ее возвышенного носика и, как в пропасть, скатывавшиеся в широкий рот:
– Ну, милый, ну не надо плакать. Меня тоже били. И мать била, и другие били. Меня тоже жалеть надо…
Из-за перегородки послышался стук и донесся заспанный голос:
– Вы долго там, черти, не угомонитесь? Нужно людям и покой дать! Полунощники, нет на вас пропасти!