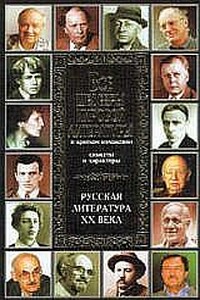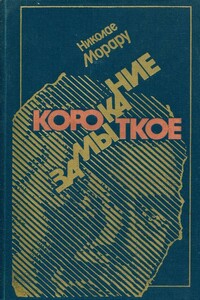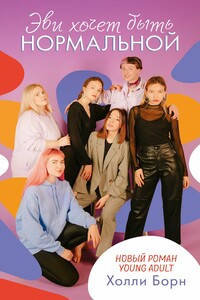Роман с языком, или Сентиментальный дискурс | страница 66
Милый Эмиль Бенвенист — он ведь хотел как лучше, когда противопоставил объективному повествованию (récit) этот самый discours — как «речь, присвоенную говорящим», нами с тобой присвоенную в том числе. Идея хорошая — опрокинуть язык в жизнь и посмотреть, что из этого получится. Но, как это часто бывает, экспериментальный объект превратили в свалку. Вслед за Бенвенистом пришло множество, извини за дешевый каламбур, «мальвенистов», начавших произносить слово «дискурс» с похабным ударением на первом слоге и относить к нему все что не лень. В одном лингвистическом словаре так и написано: мол, «дискурс» — это речь, рассматриваемая с учетом ВСЕХ неязыковых факторов. Извините, но это не под силу ни лингвистике, ни науке вообще. Наши разговорчики с учетом ВСЕХ экстралингвистических факторов может понять только Господь Вседержитель!
Оно конечно, этимология слова «дискурс» дает некоторые основания для легкомысленного с ним обращения. По-латыни-то discurrere — «разбегаться», а первое значение слова discursus — «бегание туда и сюда, беготня в разные стороны». У итальянцев наряду с discorso мужского рода (речь, выступление, разговор, беседа) есть еще и discorsa рода женского — «пустая болтовня». Я сам обожаю бегать туда и сюда, болтать без толку, особенно с женщинами. Только наукой это не называю.
В нашей профессии сейчас наиболее активны дамы. Женщины с железными локтями, безо всякой розы на груди. Да и какие там розы! С свинцом в груди, как говорится, и с жаждой мести. Мстить готовы и друг другу и всем, кто не с ними. Но, если объективно посмотреть, то некоторая часть их энергии все же служит мирно-созидательным целям. Вот Рита Ручкина — без нее тут многое бы не стояло. С утра до вечера носится, что-то затевает, просит, угрожает, ссорится, мирится. С ее подачи наконец и я стартую из Шереметьева-2. Аэропорт, потом автобус, и, подъезжая к черте города, мы со старшим коллегой (он тоже в первый раз), скрывая волнение, не сговариваясь, почти хором произносим сбивающую пафос момента цитату: «Казалося: ну ниже нельзя сидеть в дыре.// Ан глядь: уж мы в Париже…»
Первый Париж — как первая женщина: про свою интересно, про чужих — ничуть. Про Лувр, Елисейские поля, Сену там всякую молчу. Один только эпизодец. В первый же вечер с вышеупомянутым коллегой выходим на Монмартр, тот самый, что в бардовской песне произносится в три слога: «Монмартыр». Фантастическая прорва продающихся здесь блинов еще раз убеждает меня в том, что никакой «русской кухни» не существует: и пельмени, и блины, и кулебяки суть космополитические, наднациональные «гастронемы» (введем такой термин по аналогии с фонемой, морфемой и т. п.), имеющие лишь разные имена под разными небесами. Но так или иначе, блинов мы и в Москве накушаемся, а вот пока недоступного нам острого блюда обоим хочется попробовать. И ведь недорого: всего двадцать пять франков. Каждый из нас автоматически вынимает из кармана требуемую сумму, и, не сказав друг другу ни единого слова, мы входим в темный кинозал.