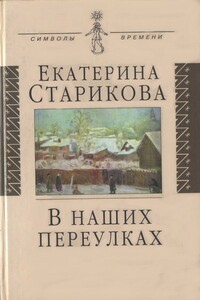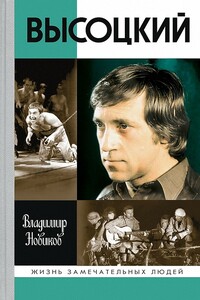Роман с языком, или Сентиментальный дискурс | страница 22
Так вот, еще один был за мной непростительный грех: непомерно серьезное отношение к своему учебному предмету. Каюсь, но Достоевский и Чехов мне были как-то ближе и дороже, чем Трушин и Харчевский. Кто они? Да два охламона из девятого «б» — почему-то запомнились именно эти имена и соответствующие им морды прыщавые. Пятнадцатилетний подросток, на мой взгляд, не в состоянии эстетически воспринимать русскую литературу XIX века. Максимум, на что можно рассчитывать, — это элементарное прочтение текста, первоначальное и поверхностное к нему прикосновение. Если ребенок не задремал над «Преступлением и наказанием», да к тому же сумел своими словами пересказать фабулу, — то он для меня уже отличник. А зачем ни в чем не повинных ребят заставляют писать так называемые «сочинения», то есть подражания плохим литературоведческим статьям («сочинять» в этом жанре как раз категорически запрещено) — не понимаю до сих пор. Живой подросток может писать только о себе самом и своих чувствах, пусть полную чушь, но через нее он должен естественным образом пройти. Когда же девочка в пятнадцать лет рожает афоризмы типа: «Противоборство сил добра и зла в душе человека — основной конфликт лирики Лермонтова», — есть в этом что-то преждевременное и нездоровое. А по школьным стандартам полагается такое поощрять и других настраивать на подражание подобным перлам или на их простое списывание.
Ладно, лучше о любви. На факультатив «Поэзия» ко мне записались только девочки. Между шестым и седьмым уроками они все успели сбегать домой, сбросить форменные платья с фартуками, надушиться болгарской дешевкой и надеть почти одинаковые голубенькие джинсы и трикотажные свитерки, называвшиеся почему-то «лапшой»; у двоих или троих грудки были обтянуты еще более модными эластичными кофточками, застегивавшимися, как можно было догадаться, в пространстве промежности. Боди? Нет, тогда это точно так не называлось, и потом это не исподнее было, а верхняя, так сказать, одежда. Короче, у всех десяти или одиннадцати оказался один и тот же любимый поэт — Эдуард Асадов. В том числе и у отличниц, писавших вполне правильные сочинения о Лермонтове. Произнося имя своего кумира, эти маленькие женщины смотрели на меня так серьезно и тревожно, как будто доверяли интимнейшую тайну. Чуть-чуть иронии с моей стороны — и контакт был бы навсегда утрачен.
Я ушел в расспросы: чем, дескать, вам эти стихи нравятся и так далее. Ответы были не очень содержательные, но такие страстно-порывистые. Нет, если понимать поэзию по коммуникативной модели Якобсона, то Асадов — гений коммуникации. В нее с ним вступали на моем веку сначала мои одноклассницы, потом мои ученицы, и даже совсем недавно одна студентка пятого курса, которой прогрессивные преподаватели безуспешно впаривали Пастернака с Мандельштамом, призналась мне как-то, стыдясь блеска в глазах, что Асадова как первую любовь никак не забудет. А вот Пушкин с коммуникативной точки зрения — пустое место, адресант без адресата. У какой современной девицы он полежал под подушкой, когда его в последний раз переписывали в тетрадки?