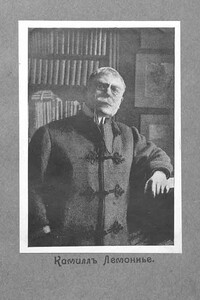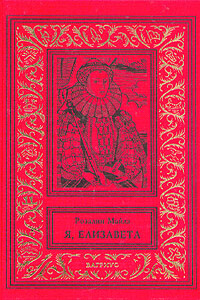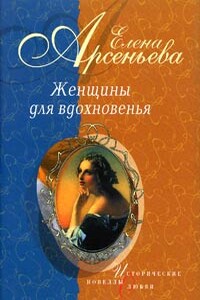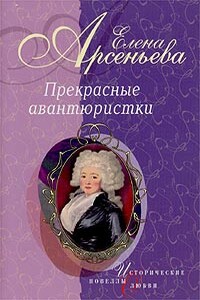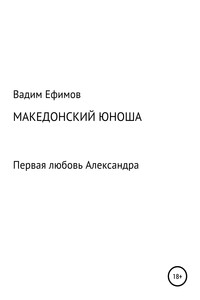В плену страсти | страница 63
Прошло уже два года, как я знал Од.
— Ну и прекрасно, — сказал я ей однажды, — мы разойдемся.
Она ответила.
— К чему? Ведь все равно вы вернетесь ко мне.
И поглядела на меня своим спокойным сумрачно-глубоким взглядом без иронии и без гордости.
Я тут же натянул ремни моей воли, как молодой бык под тяжестью груза. Неведомое тайное Посредничество уверило меня в моем освобождении, если только я найду в себе силы уехать. Я приготовился уже к долгому странствованию. Но в конце пятого дня, лишь только спустилась ночь, пошел к ее дверям и постучал.
Никогда я так не жаждал ее прекрасного и проклятого тела!..
XXVI
Однажды ночью в таинственном полумраке алькова Од рассказала об одной поре своей жизни, единственной, которую я должен был знать. То были нежные, невинные годы — период половой зрелости. Жила она с набожной, строгих правил матерью в холодком доме, куда часто захаживали духовные лица. Голоса были глухи, как при совершении таинств. Отворялись двери при входе смиренных служителей Бога и бесшумно захлопывались.
Отец ее умер молодым. Ей вспомнилось грустное лицо, уже подернутое сумраком смерти. Смерть любимого человека сделала мать преждевременной старухой и окутала тайной, как всех тех существ, которые, потеряв вкус к жизни, живут с вечной думой о смерти.
Она никогда не ласкала девочку. И детство ребенка прошло в тусклых сумерках заточенья под присмотром старой, придурковатой служанки, заразившейся также набожностью. Только священник твердил маленькой девочке о правилах веры и жизни, постоянно упоминая как бы мимоходом о грехе.
Долго она не знала себя. Глядела через окошко, как играли маленькие мальчики, но к ним ей было запрещено приближаться. И она не думала даже, чтобы они были устроены иначе, чем она.
Но вот однажды ее детские груди стали округляться. Ей стало стыдно за такое неожиданное и обезображивающее явление, которое нужно было скрывать, и, которое, быть может, и было тем знаком греха, о котором ей говорил священник. Она стала глядеться в зеркало. Ей было приятно ощущать свое молодое тело. А потом ее раскаянье прорывалось в одиноких потоках слез.
О, моя Од, — ты, как и я, инстинктивно поняла, что твое прекрасное тело дано тебе для радости, а ты испытывала к нему один только стыд, как к чему-то презренному! Ты ужаснулась, когда твоя кровь забурлила росой под твоей кожей, когда она зарделась от того, что ты познала свой пол.
С тех пор догадки стали томить ее. Ей думалось, что и у мальчиков такая же грудь, как у нее. И она не переставала больше думать о красоте, которую и они скрывали под одеждой. Но наступившая половая зрелость ошеломила ее, как гром. — Она стала терзаться, что поддалась слабости и любви к своей плоти. Она исповедалась, жаждала смерти с тоской наслаждения, полная мрачных порывов. Это случилось в пору ее исповедания, которое казалось ей таинством, полным восторженной красоты и слез, и сама она походила на маленькую святую. Она готова была растаять от любви и страха, когда ей вручена была священная облатка.