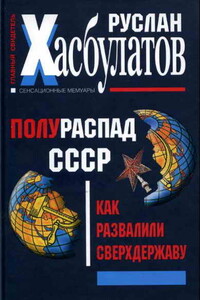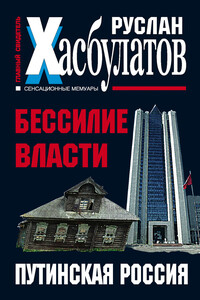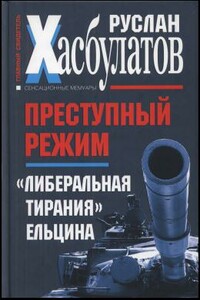Великая Российская трагедия. В 2-х т. | страница 8
На московских улицах “общество" появилось в виде некоего “прохожего", уличного зеваки, раскрыв рот наблюдающего схватку богов на “государственном Олимпе". Он подсматривает, глазеет, разглядывает в подзорную трубу с балкона (словно в театре), и не может оторвать глаз от происходящего, как зевака, оказавшийся по дороге с работы или на работу свидетелем дорожного происшествия.
Большинство жертв кровопролития, кроме тех, кто оказался в “Белом доме" — это не активные участники боев, а снующие среди вооруженных людей, любопытствующие гражданские лица, которые попали под обстрел у "Останкино".
Такую же картину реакции всего общества мы наблюдали в августе 1991 года, во время первой постсоветской смены государств. Иначе и быть не могло, ведь раскололось не общество, на две части распалось государство, не гражданин пошел на гражданина, а власть одного русского государства объявила войну власти другого.
Сути дела, а именно того, что в Москве имела место не миниатюрная гражданская война, а миниатюрная государственная война, и подавляющее большинство граждан заняло при этом позицию сторонних наблюдателей и болельщиков, это не меняет. Для русского общества, политически нерасчлененного, неспособного отделиться от государства, и в августе 1991 года, и в сентябре-октябре 1993 года эта пассивность была обычным, нормальным историческим поведением. Русское общество всегда вело себя подобным образом в переходные периоды, в смутные времена, на этапах смены государств.
Инверсией этого поведения, как мы знаем, является “русский бунт", который нашел свое выражение, например, в пугачевщине и еврейских погромах, тот самый, “бессмысленный и беспощадный" — согласно заезженной цитате из Пушкина. Общество до такой степени не оформлено, слабо, что — опять-таки вопреки опасениям и зловещим предсказаниям Запада — стремительного падения жизненного уровня, полного обнищания, обострения социальных противоречий между очень богатыми и очень бедными оказалось недостаточно, чтобы оно вышло наконец в политику или на улицу (исключение составляют случайные толпы, собирающиеся на антиельцинских демонстрациях и состоящие из несчастных, стариков, обнищавших).
Даже профсоюзы скорее являются частью государства, чем общества, не говоря уже о православной церкви, которая никак не может вжиться в свою новую роль и вместо того, чтобы стать “гласом" народа, занимается посредничеством между различными государственными интересами и группировками, к чему предрасполагает ее вся многовековая история.