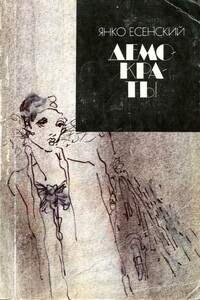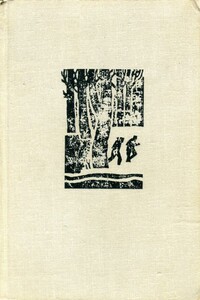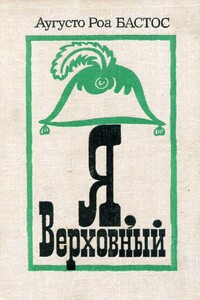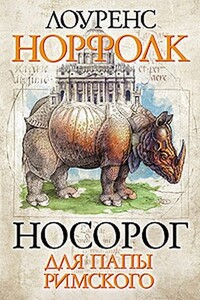Сын человеческий | страница 95
Во дворе нас ждал грузовик, старый облезлый форд. Коряво написанная табличка сообщала название гончарен и фамилию их хозяина. Под самым верхом еще более корявыми зелеными буквами было начертано изречение на гуарани.
Я устроился рядом с шофером, и мы тронулись. По дороге я завернул в полицейский участок и сообщил о непредвиденной поездке. Мне необходимо было это сделать, иначе власти могли подумать, что я скрылся, едва успев прибыть в деревню.
Чистый утренний воздух подействовал на меня освежающе. Мне казалось, что я впервые вижу Сапукай. Как и в далекую ночь моего детства, когда мы спали на разрушенной бомбами станции, деревня странно волновала меня.
— Где была старая станция? — спросил я проводника.
Он показал на пустырь между новой станцией и железнодорожными мастерскими. Там все еще торчали почерневшие камни. На этом месте двадцать лет назад ночью во время первой поездки в столицу я примостился возле Дамианы Давалос между двумя обломками стены и вместе с другими пассажирами ждал посадки: ее отложили до утра. Далекая ночь, плывшая над вырытой бомбами огромной воронкой, из которой, казалось, выползала грузная тьма, живет во мне и поныне. Ненадолго вышла луна, но черная бездна тут же поглотила ее снова.
Я лежал на еще теплых от вечернего солнца камнях, рядом с прачкой, которая спала, прижимая к себе ребенка. Долго лежал, но никак не мог уснуть. Я придвинулся к ней поближе — тогда сон и вовсе пропал. Мягкое женское тело тревожило зреющего во мне мужчину. Где-то звучал скрипучий голос старика, без конца рассказывавшего малейшие подробности катастрофы. А когда замолкал старик, я слышал воркованье, хихиканье и приглушенные стоны молодой парочки, спрятавшейся по другую сторону разрушенной стены. Их колени все время ударялись об нее. Никак было не заснуть. Я прижимался к Дамиане Давалос. Она тоже вздыхала и ворочалась с боку на бок. Там, в темноте, меня — голодного, напуганного, растерянного— мучали чувства, которых я до этого еще ни разу не испытывал, но о которых смутно догадывался. Я высосал до последней капли молоко из груди Дамианы, обокрал спавшего у нее на руках больного ребенка, да и мужа ее, сидевшего в тюрьме, предал. Там же, в ночной темноте, у разрушенной стены, как вор или святотатец, я подглядел бесприютную горькую любовь.
И, возможно, в то же самое время в пальмовой хижине на далекой плантации мате вот этот Кристобаль Хара, который шел сейчас рядом со мной, этот теперь уже рослый, сильный мужчина, первыми детскими криками требовал материнского молока, а в полицейском участке вздувалась и пухла шея его отца, сдавленная деревянной колодкой. Через двадцать лет после той ночи, после долгих хождений по мукам мне представился случай рассмотреть реальный след истории, связанный со мной не более чем сон, но в которой я, как во сне, продолжал участвовать.