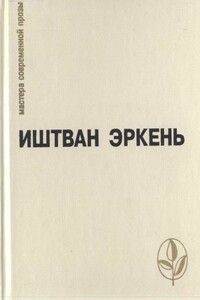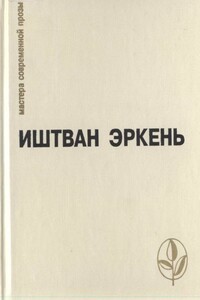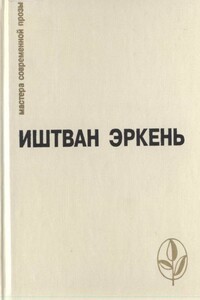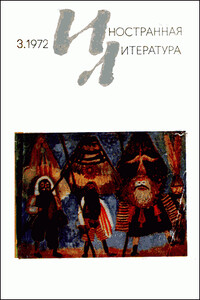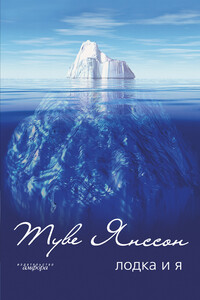Царевна Иерусалимская | страница 15
— Не сердитесь, что столько хлопот вам причинила, — оправдывалась женщина. — Всего две недели, как мы сюда въехали, откуда же мне было знать, что пан доктор вовсе и не врач… Кстати сказать, его тоже так называли: «пан доктор».
— Кого?
— Да писателя этого, который убил свою жену.
— Убил? — переспросил Казик. — Раньше вы об этом как-то не упомянули.
— Так ведь он запретил ей видеться с сыном.
— Ну знаете ли, это не одно и то же!
— А жиличка моя души не чаяла в своем ребенке, — пояснила старуха. — Только и слышишь бывало: «Сокровище мое, ясочка ненаглядная…» Нешто можно было так унижать ее?
— Унизить человека — еще не значит убить его, — сказал Казик. — А сейчас отдохните, все эти разговоры вам только во вред.
— Для иного человека унижение хуже смерти, — продолжала женщина, словно и не слыша его замечания. — Жиличка моя уж на что раскрасавица была и гордячка, а раз как-то присела ко мне на постель да как заплачет. «Тетя Малгося, — говорит, — больше мне жить не для кого». Я давай ее утешать, да куда там! Ночью пошла она на сортировочную станцию — ей, вишь, втемяшилось, будто сыночек ее там, — и сама, по своей воле, села в вагон с еврейскими детишками… А ведь у нее документы все были выправлены, будто у чистокровной арийки, и врач-немец за ней ухаживал, в чине майора.
— Выходит, это не было для нее унижением — немецкими документами пользоваться? — раздраженно спросил Рутковский. — И из-за майора своего она ведь не умерла со стыда!
— Это другое дело, — отмахнулась женщина. — Майор ее изнасиловал.
— Вы вправду верите, будто женщину можно изнасиловать?
— А неужто вы думаете, будто нельзя? — удивленно спросила старуха.
— Разве что втроем против одной.
— Тут и один на один совладать можно, — сказала женщина. — Вот если, к примеру, мужчина сильный, не хуже обезьяны. Да еще оплеуху закатит и одежду сорвет, как с моей жиличкой вышло!
— Вам необходимо отдохнуть, — сказал Рутковский.
— Думаете, мне было приятно, что немецкий майор шастает к моей жиличке, как к себе домой?
— Помолчите, пожалуйста! — одернул ее Рутковский. — Вам вредно, так много говорить.
Однако старуха попросту не слышала его замечаний.
— А после мое отношение к нему изменилось, потому как и сам майор переменился. Видать, совестно ему стало. Придет, бывало, и даже мне руку целует, а уж жиличку-то мою все цветами задаривал да стихи ей читал… «Тетя Малгося, — говорит мне как-то жиличка, — теперь мне ничего не стоило бы выставить его подобру-поздорову… Но тогда я не смогу больше отправлять ему посылки».