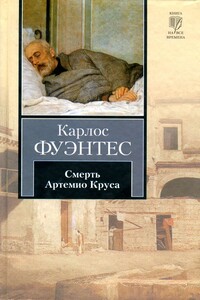Мексиканская повесть, 80-е годы | страница 49
Конечно, за малодушие приходится расплачиваться, когда родители умирают и, как в моем случае, не имеешь потомства. Навсегда теряешь возможность дать сыновьям что-то лучшее или что-то другое, чем то, что получил от своих родителей. Не знаю. Верно одно: что ни делай, всегда рискуешь разочароваться или ошибиться. Если, например, такой католик, как я, должен вести девчонку на операцию или, еще хуже того, посылаешь ей со слугой деньги на аборт, чувствуешь себя грешником. Но, может быть, эти нерожденные сыновья спаслись, не попав в наш мерзкий жестокий мир? Или наоборот: попрекают тебя тем, что им отказано испытать жизнь, искусить судьбу, называют тебя преступником, трусом? Не знаю.
Я в самом деле боюсь, что все вы запомните меня именно таким — растерянным, трусливым. Поэтому я и решил написать тебе сейчас, перед смертью. У меня была одна любовь, только одна, — ты. Любовь, которой я проникся к тебе в пятнадцать лет, сохранилась на всю жизнь, до самой смерти. Теперь я могу признаться, что ты отвечала и моему намерению оставаться холостым, и моей потребности любить. Не уверен, поймешь ли ты меня. Но только тебя я мог любить, не изменяя остальным своим убеждениям и правилам. Такой человек, каким был я, и должен был любить тебя только так, как любил я: постоянно, молча, безрадостно. И в то же время именно потому, что я любил тебя, я стал таким, каким был: одиноким, замкнутым, очеловеченным лишь некоторой долей юмора.
Не знаю, сумел ли я выразить свои мысли, смог ли я разобраться в себе самом. Все мы думаем, что хорошо себя знаем. Глубочайшее заблуждение. Подумай обо мне, вспомни меня. И ответь, сможешь ли ты объяснить то, о чем я тебе теперь скажу. Это, наверное, единственная загадка моей жизни, и разгадать я ее не смог до самой своей смерти. По ночам, перед тем как лечь, я выхожу на балкон своей спальни подышать воздухом. Я стараюсь уловить дуновение грядущего утра. Мне удавалось ощутить запах озера, погубленного городом, тоже погубленным. С годами это дается мне все труднее.
Но не это истинная причина, почему я выхожу на балкон. Часто, когда я там стою, меня начинает бить дрожь, и я с замиранием сердца чувствую, что этот час, эта свежесть, это вечное предвестие бури — хотя бы из пыли, нависшей над Мехико, — могут заставить меня действовать по какому-то безотчетному побуждению, как зверя, укрощенного в этой среде и бродящего на свободе в другой, оставшегося диким где-то на иных широтах. Я боюсь, что вернется, во тьме или с молнией, в ливне или с вихрем пыли, призрак зверя, которым могу быть я сам или мой нерожденный сын.