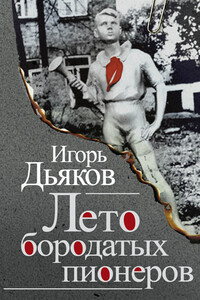Под крылом Жириновского | страница 37
В качестве источников при описании «голодомора» Конквест использовал «художественные» произведения ополоумевших русофобов, «воспоминания» разного рода проходимцев типа уголовника «Томаса Уолкера» (он же – Роберт Грин), который в американской тюрьме признался, что на Украине не был ни дня.
Все это не помешало Виктору Ющенко, клеймо которому уже скоро поставит история, наградить Конквеста орденом Ярослава Мудрого V степени.
Есть на Западе и настоящие ученые-исследователи, которые подвергли сокрушительной критике миф о «голодоморе». Это Арчи Гетти, Герберт Хертле, Олег Арин, Александр Даллин. Они, в частности, указали на то, что не менее 80% «свидетельств» исходили от анонимов.
А вот канадский журналист Дуглас Тоттл нанес по лжецам сокрушительный удар еще в 1987 году. Он издал в Торонто книгу с говорящим названием: «Фальшивки, голод и фашизм: миф об украинском геноциде от Гитлера до Гарварда». Одна деталь: оказывается, Конквест в качестве иллюстраций ужасов голода использовал в своей книге фотографии голодных детей из архивной хроники Первой мировой войны и голода в России 1921 года.
Итак, согласно безупречным архивным данным, за вычетом жертв страшной эпидемии тифа, о которой «демки» помалкивают, жертвами голода на Украине в 1932-1933 гг. стали 640 – 650 тысяч человек (А.Б. Мартиросян, «Сталин и достижения СССР», стр. 181). Отметим, что в 1891 году от голода умерло 2 млн. человек, от голода 1900 – 1903 гг. – 3 млн. человек. В 1911 г. От голода умерло еще 2 млн. человек (Дм. Верхотуров, «Сталин. Экономическая революция»).
Как же возник голод, если известно, что зерна, согласно проверенной статистике, приходилось от 320 до 400 кг на человека?
Свою роль сыграла засуха 1932 года, особенно тяжкими оказались последствия для степных регионов.
Но основной причиной стал «человеческий фактор», причем многоплановый: со стороны «кулаков», со стороны антисталинской оппозиции и, наконец, со стороны недобитых «верных ленинцев», доводивших до абсурда вовсе не абсурдные установки.
Кулаки были, конечно, крепкими и неленивыми хозяйственниками. Но многие уже на «тракторизацию» не тянули. Слияния угодий часто становилось объективной необходимостью, если желать резкого увеличения товарного производства. Хотелось тянуть по старинке. Было и резонное недоверие к инициативам властей. К искусственному разжиганию этого недоверия с удовольствием приложила руку «оппозиция».
Нельзя забывать, что, составляя около пяти процентов населения СССР, «кулаки» контролировали 56% продажи сельскохозяйственной продукции.